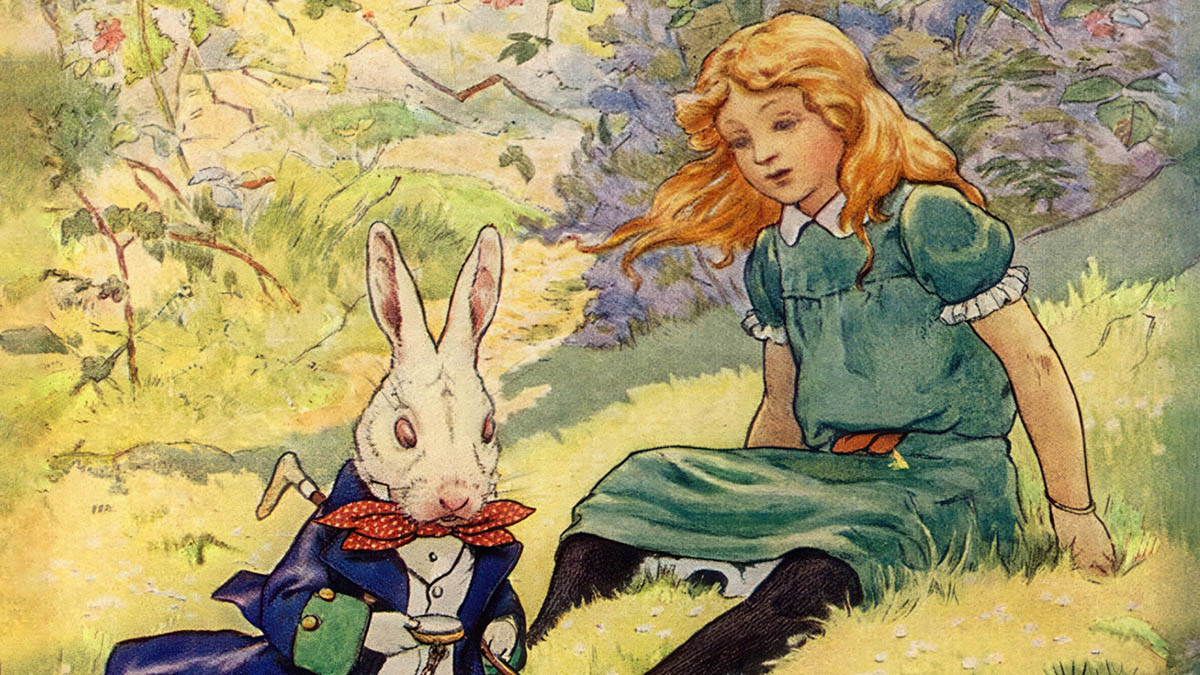Потомственный эксцентрик
Чарльз Доджсон (таково настоящее имя Льюиса Кэрролла) родился в семье сельского священника в графстве Чешир. Одним из любимых занятий нашего героя в детстве и юности было нянчить и занимать своих многочисленных братьев и сестер – всего у него их было 10, и среди них он был почти самым старшим. Чарльз выдумывал замысловатые игры, сказки, устраивал домашний кукольный театр, мастерил игрушечную железную дорогу, выпускал домашний литературный журнал.
Среди детей семейства Доджсонов было почему-то распространено заикание. Чарльзу этот дефект речи тоже достался и мучил его всю жизнь. Заикание усиливало природную застенчивость Чарли. Но робким он при этом не был: мог постоять за себя кулаками, особенно когда попал в частную школу-интернат Регби, где столкнулся с дедовщиной – по ночам старшие ученики издевались над младшими. Там он защищал не только себя, но и своих более слабых товарищей. Некоторая воинственность видна и в надписи на одном из его школьных учебников: «Эта книга принадлежит Чарльзу Лютвиджу Доджсону: руки прочь!»
Учитель математики Мэр вспоминал позже, что не знал более одаренного ученика. Талант к этой науке и языкам Чарльз унаследовал от отца. Как и любовь к эксцентрике: внешне строгий священник, Доджсон-старший был на самом деле веселым и остроумным человеком, о чем можно судить по его сохранившимся письмам к сыну.
Тихий дон
После школы Чарльз поступил в Оксфорд, в колледж Крайст-Чёрч, который ранее окончил его отец. В Оксфорде Доджсон учился блестяще, хотя иногда позволял себе провалить тот или иной экзамен, отвлекаясь на театр и прочие увеселения, – «сухарем» он не был.
После окончания колледжа Чарльз получил право на пожизненную стипендию и преподавание, став тем, кого в Оксфорде величают доном. По старой традиции, уходящей корнями в период, когда этот университет был монастырем, дону полагалось принять священнический сан и обет безбрачия. Нашему герою, несмотря на его искреннюю и глубочайшую религиозность, очень не хотелось связывать себя такими узами – и не пришлось бы, родись он на 10 лет позже: в 1866 году устав был изменен. Но все, что смог сделать молодой Доджсон, это остановиться на сане дьякона – ступени, предшествующей священству. Однако обета безбрачия избежать не удалось.
Велик соблазн «распилить» нашего героя пополам, отделив серьезного и педантичного математика Чарльза Доджсона от лукавого фантазера Льюиса Кэрролла. Так и делают некоторые биографы. В нем действительно сочетались, казалось бы, противоположные черты, но они столь тесно переплетены, что можно говорить только об одной цельной личности Доджсона-Кэрролла.
Да, он был педантом, с коллегами держал себя сдержанно (отчасти потому, что не хотел лишний раз демонстрировать свое заикание), постоянно размышлял о вопросах веры и богословия (чему свидетельство его многотомный дневник), на его лекциях студенты спали (он и сам не любил свои лекции), но вместе с тем дон Доджсон мог позволить себе шутки, больше подобающие Льюису Кэрроллу. Например, узнав, что в колледже появилась комната для хранения гербариев, он попросил ученый совет выделить комнату и математикам «для деления с остатком», оборудованную столами для деления целых чисел и шкафами для хранения остатков.
Озорством пронизаны многие письма Доджсона, а он был страстный любитель эпистолярного жанра и даже сочинил микротрактат «Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма», характерный для него пример сочетания юмора и логики.
Ко всему прочему Доджсон был заядлым театралом, хорошо пел и вообще не чурался светских компаний. Он был знаком со знаменитым историком культуры Джоном Раскином и поэтами «Братства прерафаэлитов» – Россети, Хантом, Милле.
Осторожно, дети!
Однако по-настоящему Чарльз раскрывался в общении с детьми, которые напоминали ему о родной семье, где он был главным затейником. В душе дон Доджсон оставался ребенком и поэтому, в отличие от многих взрослых, понимал детей и интересовался их внутренним миром. Он писал знакомой о своих маленьких собеседниках: «Я имел счастье общаться с ними наедине. Такое общение очень полезно для духовной жизни человека: оно заставляет убедиться в скромности собственных достижений по сравнению с душами, которые настолько чище и ближе к Господу».
Добрый дух пьяного леса: 100 лет со дня рождения Джеральда Даррелла
В мире детства эксцентричность естественным образом сочетается с обезоруживающей прямотой – на этом построены многие коллизии кэрролловской «Алисы».
Лишенный возможности иметь собственных детей человек возится с детьми своих друзей. В XIX веке это выглядело совершенно нормальным. Но в ХХ веке вдруг стало предметом нездорового интереса, когда с подачи Зигмунда Фрейда западное общество помешалось на сексуальных вопросах. В кэрролловской любви к детям принялись искать нездоровый подтекст и в качестве доказательства ссылались на его фотоработы.
Ведь вдобавок ко всему Чарльз Доджсон был еще и одним из лучших фотографов своей эпохи. Полжизни он посвятил этому занятию, которое тогда в техническом плане было очень хлопотным и трудоемким. Доджсон сделал около 3000 снимков, многие из которых – настоящие произведения искусства. Фотографировал он и детей, всегда с разрешения родителей и в их присутствии.
Разоблачители ХХ века подняли шум, увидев, что на некоторых его снимках девочки частично обнажены, но в викторианскую эпоху такие фото были в большой моде и символизировали детскую невинность и чистоту.
Дальше всех зашла Би-би-си, выпустив 10 лет назад целый документальный фильм, выстроенный вокруг снимка голой девушки – якобы Лорин, старшей сестры Алисы, прототипа героини кэрролловской сказки. Впрочем, авторам скоро пришлось извиняться: вся доказательная база «расследования» оказалась сфабрикованной, а Доджсон-Кэрролл не имел никакого отношения к обсуждавшемуся фото.
Нам пришлось задержаться на этой теме, поскольку сегодня, после всего понаписанного о Кэрролле, увы, редкий разговор о нем обходится без сальных домыслов. Кстати, на кэрролловской дружбе с детьми стали делать акцент благодаря племяннику писателя, его первому биографу Стюарту Доджсону Коллингвуду и другим наследникам, которых сильно смущало, что давший обет безбрачия дьякон порой влюблялся в женщин и писал об этом в дневниках. Именно эта сторона жизни Кэрролла казалась им компрометирующей. После смерти писателя таинственно исчезли несколько тетрадей его дневников. Создавая образ непорочного дяди, племянник выдвинул на первый план его дружбу с детьми. Знал бы он, насколько медвежьей окажется эта услуга!
Большая прогулка
Главным «детским другом» жизни Чарльза Доджсона стала Алиса, дочь филолога Генри Лидделла, назначенного деканом колледжа Крайст-Чёрч в том же 1855 году, когда наш герой стал оксфордским доном.

Алиса Лидделл – прототип главной героини кэрролловской сказки, 1865 год
ARCHIVIO GBB/Vostock PhotoМолодому незнатному профессору было не по рангу дружить с семейством декана, но знакомству и сближению способствовали его занятия фотографией. Заметив Доджсона с экзотической для того времени аппаратурой, жена декана попросила его сделать портрет своего старшего сына Гарри. Веселый математик легко нашел общий язык со всеми детьми Лидделлов, а портрет получился столь хорош, что Доджсону заказали еще. Его стали приглашать в гости и на прогулки – маленьким Лидделлам он нравился куда больше, чем скучная и строгая гувернантка. Чарльз без усилий придумывал игры, загадки, шарады, сочинял на ходу увлекательные рассказы. Но потребовалось почти семь лет, чтобы появилась его самая главная история.
Одним июльским полднем 1862 года, а именно: 4-го числа, в пятницу, Чарльз Доджсон отправился на лодочную прогулку по Темзе в компании своего приятеля преподобного Робинсона Дакворта и трех сестер Лидделл – Лорин, Алисы и Эдит.
Алиса – ей было уже 10 лет – попросила Доджсона развлечь их какой-нибудь историей. В тот день профессора математики посетило особенное вдохновение. Главной героиней он сделал «заказчицу», а себя и друзей вывел в виде различных персонажей. Старшая Лидделл стала Попугайчиком Лори, младшая – Орленком Эдом, Дакворт – Робином-Гусем, а себя Чарльз сделал птицей Додо. Так он обыграл собственное заикание – представляясь, Чарльз часто произносил свою фамилию как «До-до-доджсон».
В рассказ вплетались различные знакомые в их кругу детали, например, крошечная дверь в норе намекала на маленькую калитку в церковный сад, куда Алисе всегда очень хотелось проникнуть, но детям это было запрещено. А история про Море слез – намек на предыдущую прогулку этой компании, прерванную промочившим всех до нитки ливнем.
Повествование Доджсона растянулось на несколько часов, за это время друзья успели пообедать на берегу у аббатства и вернуться обратно, но могло бы так и остаться не более чем приятным воспоминанием, если бы Алиса – и большое ей за это спасибо! – не принялась настоятельно упрашивать Доджсона записать всё, что он только что придумал.
Срочно в печать
Еще не понимая важности данного ему задания (ведь это была, по сути, ни к чему не обязывающая игра), Доджсон не спешил зафиксировать сказку на бумаге. Прошло полгода, прежде чем он все-таки приступил и увлекся, придумывая новые эпизоды. Один из черновиков он показал своему другу писателю Джорджу Макдональду, а тот – своим детям, и те, придя в восторг, постановили: «Нужно выпустить настоящую книгу».
Доджсон начал переговоры с издательством Macmillan, которое предложило ему заменить авторские иллюстрации более профессиональными. Писатель, на этот раз забыв о вечно мешавшей ему скромности, с подачи друга Дакворта выбрал едва ли не самого востребованного иллюстратора – Джона Тенниела, оформлявшего популярный сатирический журнал «Панч».
Тенниел не раз жалел, что взялся за эту работу, потому что заказчиком Доджсон оказался невероятно требовательным – все иллюстрации должны были делаться на основе его собственных рисунков, и он отчаянно бился за каждую деталь. Рукописный и еще не окончательный вариант книги – он назывался «Приключения Алисы под землей» – писатель подарил самой Алисе на Рождество 1864 года. Много лет спустя, попав в нужду, она продала его на аукционе за немалые деньги.
Любитель точных цифр и изящных параллелей, Доджсон хотел, чтобы первый тираж «Алисы» увидел свет 4 июля 1865-го, ровно через три года после той самой прогулки. Уложиться в срок удалось, но книга вышла с ошибками, и щепетильный автор заставил издательство вносить правки. В итоге печатание возобновилось только осенью, но некоторые экземпляры первого, исторического тиража все-таки попали в продажу.

Льюис Кэрролл с миссис Макдональд и детьми
Science History Images/Vostock PhotoСквозь зеркало
Подписанная именем Кэрролла книга имела такой успех, что слухи о ней дошли до королевы Виктории. Ей тоже очень понравилось. Есть легенда, что королева на самом деле и была настоящим автором «Алисы», а Кэрролл – просто подставное лицо. Наверное, эта версия льстит британским монархистам, но более занятной выглядит другая легенда. Придя в восторг от «Алисы», Виктория потребовала достать ей другие книги автора и вскоре получила пару: «Курс по алгебраической геометрии» и «Алгебраический разбор Пятой книги Евклида».
Принц небесной пустыни: 125 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери
Успех «Страны чудес» навел Кэрролла на мысль о ее продолжении. Так в 1871 году появилась «Алиса в Зазеркалье». Но не стоит думать, что Кэрролл собирался бесконечно окучивать найденную золотую жилу, подобно многим современным авторам, штампующим бесконечные сиквелы. «Зазеркалье» было прощанием с героиней сказки.
Алиса Лидделл выросла – ко времени выхода второй книги ей было уже 19, непосредственность и наивность, сказочный мир остались в прошлом. Отношения писателя с Лидделлами испортились вскоре после выхода «Страны чудес». Одни исследователи считают, что миссис Лидделл не нравилось, что подрастающая Алиса уделяет слишком много внимания Доджсону, который ей в любом случае не пара, другие полагают, что причина разрыва связана не с Алисой, а с тем, что Доджсон встал в оппозицию к декану в одном университетском конфликте. Как бы то ни было, но через несколько лет Лидделлы и Доджсон помирились.
Путешествие в Россию
Кэрролла иногда хотят показать интровертом, почти всю жизнь безвылазно проведшим в Оксфорде. Однако он не был домоседом, любил отдыхать в Шотландии, в Озерном крае или на острове Уайт. Он был готов отправиться и за тридевять земель, на затерянный в Южной Атлантике остров Тристан-да-Кунья, о бедственном положении жителей которого узнал от своего младшего брата, служившего там священником. Он ходил на прием к премьер-министру Роберту Солсбери с проектом переселения островитян (их было всего около сотни) в Африку, но получил отказ: власти решили, что, узнав о тристан-да-кунийцах, все прочие жители британских колоний также примутся упрашивать переселить их за государственный счет.
Единственной дальней поездкой Кэрролла стало путешествие в Россию. В 1867-м он составил компанию своему другу-священнику, которому поручили доставить письмо епископа Оксфордского Уилберфорса главному духовному лицу тогдашней России – митрополиту Московскому Филарету (Дроздову), ныне причисленному к лику святых.
Пуститься в это путешествие Доджсона сподвигло желание побольше узнать о православии. Помимо его личного интереса к разным формам духовности сыграло роль и намечавшееся в то время сближение англиканской и русской церквей. Сближения в итоге не случилось, но визит в Россию Доджсону понравился. Его поразили великолепие Петербурга и кремлевских палат, красота церковных служб и погруженные в молитву схимники Троице-Сергиевой лавры. Побывали англичане и на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде. Доджсон посетил театры в нескольких российских городах и нашел их в некоторых аспектах лучше лондонских: «Я никогда не видел актеров, которые бы так внимательно следили за действиями своих партнеров и так мало смотрели в зал».
Дневник русского путешествия Кэрролла-Доджсона не предназначался для публикации и был полноценно издан на Западе только в 1999 году, а потом и в нашей стране.
Снарк и другие странности
Помимо двух сказок об Алисе Кэрролл написал около трехсот вещей – романтические и юмористические стихи, пародии, либретто опер для театра марионеток. Есть и несколько поэм, например, «Фантасмагория», в которой привидение жалуется на свою незавидную долю, и апофеоз поэтики нонсенса – «Охота на Снарка», над расшифровкой смысла которой до сих пор бьются исследователи. Сам же автор признавал, что не знает, о чем она.
125 лет К.С. Льюису, автору "Хроник Нарнии" и апологету христианства
Главным же сочинением своей жизни Кэрролл считал не «Алису», а книгу «Сильвия и Бруно», над которой долго работал и две части которой издал в 1889 и 1893 годах. Но, как это нередко бывает, созданная играючи «Алиса» оказалась намного интереснее, чем то, что долго продумывалось и вынашивалось. Рассказывая о приключениях двух детей эльфийского короля, Кэрролл уместил в книге множество важных для него мыслей и наблюдений. Но успеха «Сильвия и Бруно» не имела, и многие даже не знают о ее существовании.
Еще одна малоизвестная сторона жизни Кэрролла-Доджсона: благотворительность. Занимался он ею настолько по-евангельски тихо, что даже близкие не догадывались о ее масштабах. Лишь один из поздних биографов, изучив финансовые дела нашего героя, выяснил, что оксфордский профессор порой не только жертвовал нуждающимся последние деньги, но и сам влезал в долги, чтобы помочь другим.
Путь Алисы
Кэрролл умер в 65 лет от воспаления легких, развившегося из, казалось, безобидной простуды. Доживи он хотя бы до 70, смог бы увидеть первую экранизацию «Алисы в Стране чудес». 10-минутный фильм пионера британского кино Сесиля Хепуорта вышел в 1903-м и довольно точно следовал книге и иллюстрациям Тенниела.
А в 1915-м американский режиссер В. Янг снял уже полнометражный фильм по знаменитой книге. Его бы писатель тоже вполне мог застать и, как человек, серьезно занимавшийся фотографией, оценил бы изобретательность, с которой авторы фильма воссоздали сложные фантастические образы.

Сцена безумного чаепития из экранизации «Алисы в Стране чудес» режиссера В. Янга, 1915 год
Universal Art Archive/Vostock PhotoНо Кэрролл успел посмотреть лишь мюзикл, поставленный по «Стране чудес» в лондонском Театре Принца Уэльского в 1886 году.
Приключения Алисы экранизировали десятки раз в разных странах. Однако прямые экранизации – лишь малая часть того, что породили книги Кэрролла. Они разошлись на крылатые фразы, их персонажи, будь то Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Шалтай-Болтай, Траляля и Труляля, Морж и Плотник, Белый Рыцарь или сама Алиса, различные сцены, вроде Безумного Чаепития, зажили самостоятельной жизнью в современной культуре.
Великие почитатели
В первые десятилетия после появления книги Кэрролла породили волну подражаний – прямых, вроде «Новой Алисы в старой Стране чудес» Анны Ричардс, или косвенных, вроде «Из ниоткуда на Северный полюс» Тома Худа, но сегодня о них мало кто помнит. Куда важнее, что влияние Кэрролла признавали большие писатели ХХ века, такие, как Джеймс Джойс, Владимир Набоков, Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар, Милорад Павич. Набоков был одним из первых переводчиков «Алисы» на русский язык – в его варианте повесть превратилась в «Аню в Стране чудес» (1923).
Кэрролл сильно повлиял на фантастику ХХ и ХХI веков. Алиса Селезнева, героиня книг Кира Булычева, своим появлением обязана, конечно же, тезке из кэрролловской книги. Кстати, в юности Булычев также пытался переводить Кэрролла на русский.
Еще одна особенность феномена Кэрролла: «Алиса» очень сложна для перевода, потому что вся построена на игре слов и смыслов. И, несмотря на это, она «работает» на многих языках. Лучший русский перевод Нины Демуровой вышел в конце 1970-х, а несколькими годами позже в СССР появилась пластинка с аудиопьесой Олега Герасимова «Алиса в Стране чудес» на основе этого перевода. Песни для пьесы написал и исполнил Владимир Высоцкий.
В западной поп-музыке приключения Алисы обыгрываются так же часто, как и в литературе. Одни из самых известных примеров – White Rabbit, психоделический гимн американской группы Jefferson Airplane, или песня I Am The Walrus группы The Beatles, вышедшие столетие спустя после первых изданий Кэрролла.

Джонни Депп в роли Безумного Шляпника в экранизации «Алисы в Стране чудес» Тима Бертона, 2010 год
WALT DISNEY PICTURES/Album/Vostock PhotoПродолжение жизни
О книгах Кэрролла написаны сотни исследований, создающих впечатление, что практически любая фраза в этих сказках имеет несколько смыслов и может быть поводом для многословного комментария филолога, искусствоведа или математика. Но разве это делает «Алису» привлекательной для большинства читателей в разных странах мира?
Кэрролл, конечно, любил загадки и шарады, но в «Алисе» он создал мир, проникнуть в который можно при помощи ключа, которым при желании может обладать каждый. Он сделан из любопытства и чувства юмора.
В этих сказках поражает сочетание сложности и удивительной непосредственности, напоминающей естественность маленьких детей. Читатель понимает, что перед ним разворачиваются события фантастические и из ряда вон выходящие, но описываются они так легко и точно, что кажется, будто речь идет о вещах абсолютно естественных. Сказочный мир Кэрролла настолько убедителен и логичен в своей абсурдности, что читатель принимает его с полным доверием.
Выросшие из игры, эти повести сохраняют в себе ее озорную энергию. Неудивительно, что первоначально критики приняли «Алису в Стране чудес» в штыки – книга не была похожа на то, что писалось в викторианскую эпоху, в ней нет никакой тяжеловесной назидательности, наоборот, автор явно подшучивает над многими условностями.
Удивительно и то, что при всей их отчетливой английскости сказки Кэрролла оказались близки и понятны читателям разных стран. Видимо, он сумел коснуться того, что объединяет всех фантазеров независимо от того, в какой культуре они выросли.
Кэрролл равно интересен и взрослым, и детям. Для него не существовало границы между этими двумя мирами. Честертон же считал, что «Алису» нужно читать в первую очередь взрослым, чтобы не закоснеть в серьезности. Он печалился, что в Англии первой половины ХХ века «Алиса» стала классикой, а значит, чем-то, чем она по своей сути не может быть: кирпичиком унылого школьного образования, тогда как эти сказки написаны для того, чтобы весело переворачивать все с ног на голову.
К счастью, «Алиса» переросла все навязываемые ей одежды, и сегодня мы можем видеть эти повести такими, какие они есть: одновременно и дурашливой сказкой, и изысканной пищей для требовательного ума. Мы живем в мире, который пронизан цитатами из Кэрролла, и это делает его лучше.