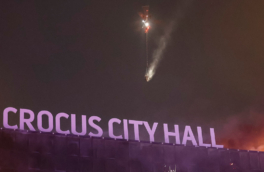Известный кинорежиссер, профессор ВГИКа, народный артист России Вадим Абдрашитов рассказывает, как он противостоит дебилизации молодежи, а кое в чем приводит в пример Александра Лукашенко.— Вадим Юсупович, как у нас обстоят дела с подрастающим поколением творческой молодежи? Что происходит во ВГИКе?
— Идет очередная сессия, у нас сейчас 4-й курс. У нас — это у меня и двух моих коллег по преподавательской работе: режиссеров Аркадия Сиренко и Антона Васильева. Мы вместе когда-то учились у Ромма. Когда ВГИК привлекал меня к этой работе, я поставил условие: со мной должны преподавать «мои» люди. Благодаря этому нам удалось выстроить определенную систему принципов обучения.
— Это уже дало какие-то результаты?
— Говорить о результатах рано. Это — работа на будущее. Но когда у вас в мастерской есть два талантливых человека, это уже хорошая мастерская. Обучение — «парниковый» период перед выходом в реальную жизнь, после которого может все круто измениться. Когда мы учились, в институте были такие звезды, чьи работы даже сверкали на вгиковских фестивалях и которые потом просто погасли. Жизнь в этом смысле, и кино особенно, достаточно суровы.
— Что вызывает наибольшее беспокойство? Какая главная проблема обучения киноделу?
— Раз в 5 лет я встречаю новое поколение. Что очевидно: абитуриенты все хуже и хуже знают историю, литературу, кинематограф, театр... Это люди, которые по-своему бывают даже талантливы, но их общая культурная подготовка — на безобразно низком уровне. И если им начать задавать вопросы, которые задавались на экзаменах 5 лет назад, то сегодня некого будет принимать. Поэтому мы уже не просим, например, назвать имена трех сестер у Чехова, а спрашиваем (пока еще): «Как фамилия некого Евгения?»
— Ужасно! Но книги вроде бы сейчас общедоступны...
— Сокращение часов литературы в школьной программе — это гораздо серьезнее, чем вам кажется. А внедрение ЕГЭ, на мой взгляд, просто гибельно для российского образования... Особенно в его гуманитарной части.
— А какие вопросы задавали вам при поступлении во ВГИК?
— В 70-м году вопросы на вступительном экзамене были весьма серьезные: «Что из последнего прочли в толстых журналах?», «Какую последнюю выставку посетили?» Существовал и так называемый прогон по картинкам. Спрашивали о репродукции: «Чья это работа?» — «Гогена». — «А вы не помните, в какой галерее она выставлена?»; «А это чье полотно?» — «Иванова». — «В каком музее можно его увидеть?»; «Кто ваш любимый композитор?», «А почему?», «Где вы его слушали?» и т.д. То есть культурная подготовка требовалась довольно мощная. Я не думаю, что на экзаменах это имело решающее значение, но определенное все же имело.
— Есть ли разница в уровне подготовки между поступающими сегодня во ВГИК москвичами и приезжими?
— Конечно, и она очень выразительна, я бы даже сказал — примитивно выразительна. Есть абитуриенты, которые никогда не видели фильма «Броненосец «Потемкин». Мы разводим руками: «Как так?!» А нам отвечают: «А где? В кинотеатрах этот фильм не идет, ни в одном видеосалоне нашего города он не продается». Возразить нечего. В Москве в этом смысле жизнь проще. Иногда находятся даже молодые люди, которые ходят на выставки, знают, где находится Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
— Ну это же смешно...
— Это не смешно. Государство не беспокоят проблемы культурной образованности молодежи, и я подозреваю, что через 7—8 лет это скажется чудовищным образом. Можно многое ставить в упрек советской власти, но она порой поступала удивительнейшим образом. Так, во времена стагнации, году в 76-м, вышло знаменитое постановление ЦК о поддержке творческой молодежи. Это была сенсация. Конечно, мы тогда к этому по-другому относились, «ну, мол, поня-ятно». Но по теперешним временам — это просто фантастика! Госкино обязали как можно больше картин отдавать дебютантам, субсидировать картины. Молодым художникам давали мастерские, в приказном порядке вводили в литературу молодых... А поскольку происходило все это в тоталитарном государстве, то результаты выглядели впечатляюще масштабно.
— А есть ли что-то общее у сегодняшних ребят с поколением 60—70 годов? Или, как пел Окуджава, «у каждой эпохи свои подрастают леса»?
— Я могу говорить только о своих студентах, а ВГИК — дело особое. Люди, туда поступающие, априори амбициозны. Если сравнивать с поколением, которые пришло за «шестидесятниками», с нашим поколением, то у многих сейчас отсутствует сам процесс поиска путей самореализации, в том числе, в творчестве. Это не означает, что в 60—70-х годах все толпами занимались этой самореализацией и были универсально образованными. Главное — было совпадение развития каждого из нас, молодых, с расцветом, ренессансом 60-х годов. И подобного совпадения хочется пожелать каждому молодому человеку. Прекрасно, когда твоя молодость совпадает с молодостью страны, пусть даже с какими-то оговорками. «Оттепель» так подействовала, что очень много молодых людей, далеких от искусства, литературы, но творчески живых, стали себя реализовать по возможности везде: в КСП, фотографии, многотиражках, кинолюбительстве, народных театрах... Сегодня приоритеты другие. Развитие идет, но то, что происходит вокруг, я бы не назвал расцветом, мягко говоря.
— Как же выкручиваетесь вы, педагоги, обучая теперешнюю «сырую» молодежь?
— Говоря прямо, сегодняшний чрезвычайно низкий уровень поступающих во ВГИК нам, педагогам, мастерам, очень затрудняет жизнь. Массу времени мы тратим на латание этих лакун. Например, следующим образом. В конце летнего набора, когда сформирована мастерская, приглашаем в аудиторию этих 20 человек, с кем предстоит прожить 5 лет, и говорим: «До начала учебы у вас впереди месяц. За этот месяц вы должны прочитать следующие произведения: Толстой — «Воскресение» и «Анна Каренина», Тургенев — «Отцы и дети», Лермонтов — «Герой нашего времени»...
— То есть список обязательной школьной программы?
— Именно. Делается это только потому, что с первого дня работы мы должны иметь со студентами какой-то общий язык, у нас должны быть какие-то общие мифологемы. Условно говоря, студенты должны понимать, когда им говорят: «Что это она тут изображает Наташу Ростову, когда это Катюша Маслова!» В общем, хоть как-то... Сейчас, на 4-м курсе, рекомендуем, иногда и заставляем: съездите в Манеж на выставку фотографий Родченко, зайдите в библиотеку, возьмите «Новый мир», там есть то-то интересное. Разумеется, я осознаю, что это не столько вина, сколько беда поступающих. Слава богу, во ВГИКе еще остались педагоги, которые дают фундаментальную основу гуманитарного образования. ВГИК этим силен до сих пор. Слава богу, есть пока что в России педагоги-бессребреники, готовые отдать себя целиком, которые взволнованным голосом рассказывают о Гомере или об Эйзенштейне, которые работают просто даром. Это унизительно, когда зарплата педагога — менее 3 тыс. рублей в месяц. Мои друзья, с которыми я вместе работаю, трудятся из каких-то альтруистических соображений: тех копеек, которые они получают, не хватает даже на бензин, чтобы доехать до ВГИКа. Это инерция советского времени. Напрашивается вопрос: а каким образом в дальнейшем можно будет привлекать к этой работе людей? Хорошо, вот вроде бы государство обратило внимание на науку, хотя и здесь не все благополучно. Но вот отряд гуманитариев, творческие вузы — что с этим-то делать? Неужели нельзя повысить зарплаты? Ведь именно педагогам приходится одолевать бескультурье и безграмотность поступающих. А это сегодня — одна из двух основных проблем обучения в творческом вузе. И вообще, думаю, в жизни.
— В чем вторая проблема?
— Она в том, что, по существующему закону, второе высшее образование в России — платное. Во ВГИКе, например, нужно ежегодно платить за обучение $5—6 тыс. И это не подпускает к институту огромное число людей, которые вполне могли бы учиться, обладающих пусть минимальным, но уже накопленным жизненным опытом. Однако по сегодняшнему положению самый идеальный абитуриент — это вчерашний школьник. Вот он имеет право на бесплатное обучение во ВГИКе. Это славные, милые, подчас талантливые ребята, но режиссура, равно как и сценарное дело, требует хотя бы минимального жизненного опыта. Что эти ребята будут делать на сценической площадке? Что будут снимать для экрана? Они переживают в этот период половое и социальное созревание, пытаются определить свое место в социуме. И все это делают подчас с большим энтузиазмом со своими друзьями по операторскому и актерскому цеху. И получается такая милая штучка, иногда даже неплохо сделанная. Но она не представляет никакого интереса для зрителя, потому что это — детский лепет в буквальном смысле этого слова.
— В каком возрасте вы сами поступили во ВГИК?
— Когда я поступил, мне было 25 лет. Я был уже взрослым дядькой с опытом, и при этом на курсе были люди старше меня, среди них — профессиональный боксер, летчик-реактивщик, театральный актер... И среди нас — два 17-летних молодых человека. Такой возрастной разброс представлял оптимальный расклад. Сейчас этого не происходит, потому что за второе образование надо платить, а у 23-летних часто уже есть семья, дети. Какие, к черту, $6 тыс. в год, когда на жизнь не хватает! Есть люди, которые поступают на коммерческое отделение, а потом уходят. От меня за эти годы ушли по этой причине четыре талантливых человека. Но почему нельзя сделать исключение для двух фундаментальных, смыслообразующих специальностей: драматург и режиссер? То же самое происходит в театральных вузах. Это — общая беда, если не катастрофа. То же самое — в Литинституте. Поразительно, даже в консерватории — та же проблема, когда речь идет о специальности дирижера...
— Обращения к властям предержащим были?
— И неоднократно! И ректоры институтов писали, и мастера. В Минфин, Министерство культуры, Думу... Как об стенку горох. Все это уходит, как в песок, просто до безобразия без всякой реакции! А ведь на это не нужно дополнительных средств. Просто разрешить людям с высшим образованием претендовать на бюджетные места. Я сам участвовал в переговорах с представителями думского комитета по образованию, и вроде уже начали договариваться о каких-то фазах, но все без толку. Между прочим, в Белоруссии этот вопрос решен. Лукашенко в эту проблему вник, и теперь их закон звучит так: «...Второе высшее образование — платное, — запятая, — за исключением всех творческих специальностей». Всех. Запятую поставили в нужном месте. На самом деле это — чрезвычайно важно. Инфантилизм поступающих потом виден на экране. Пустота экранных мыслей и чувств объясняется по большей части этим.
Я начинаю задумываться: может, это власти нужно? А то молодые начнут задавать какие-то вопросы, снимать что-то не то. Может, это часть общего процесса дебилизации, которая идет с помощью ТВ и всей масс-культуры?
— Союз кинематографистов тоже молчит?
— Союз мог бы обратить на это внимание. Если бы он был нормальным, единым сообществом, наверняка уже не один чрезвычайный пленум был бы созван. Об этом громко говорилось бы со страниц газет, журналов: «СК вкупе с Союзом театральных деятелей, Союзом писателей, Союзом композиторов чрезвычайно озабочен...» Но нынешний Союз занят совсем не тем. Это ему не нужно.
— В кино и тем более в телевидение сегодня вкладываются очень немалые средства...
— ...но телевидение и заказывает музыку. В основном достаточно примитивную.
— Поэтому хорошие фильмы идут ночью.
— Именно. И когда мне говорят: рейтинг, рейтинг, я понимаю, что это бред. Это все надуманно. А может быть, это делается для того, чтобы не было сравнений. Было бы странно увидеть какую-нибудь замечательную картину, к примеру, «Механический апельсин» — о насилии, с насилием, и тут же — наш сериал о каких-то бандитах. Даже не очень образованный человек начнет сравнивать. А зачем это нужно? При полной монополии власти на ТВ нам показывают то, что одобрено и инспирировано властью. Зрителя приучают к бездумному, бездарному ТВ, и он в конце концов перестает удивляться. И что будет за зритель через 10—20 лет? А ведь все это напрямую связано с нравственным здоровьем общества. Интересно, сработает ли у общества инстинкт самосохранения? Я не знаю.
— Наверное, нужно как-то сориентировать зрителя в секторе предпочтений?
— Конечно, должно происходить внедрение культуры. Может быть, даже на уроке основ киноискусства в школе. Кстати, то же телевидение могло бы взять эту функцию на себя. Это вопрос об отношении власти к культуре и к образованию. Инфантилизм и низкое качество — вещи самовоспроизводящиеся. Они питают, в свою очередь, молодых, а те повторяют, возводят все это в квадрат, в куб... Иногда видишь молодого талантливого человека, и его просто жалко: он еще недообучен, но уже отравлен массовой культурой. А может быть, власть и не захочет думать о внуках и правнуках, потому что она сама рожает за рубежом, обучает за рубежом...
— Звучит не очень оптимистично...
— Я как раз оптимист. И говорю об этом только потому, что оптимист.
— Во ВГИКе обучаются и иностранные студенты. Как вам уровень молодого западного кино?
— К нам приезжают учиться из многих стран Европы, есть студенты из Китая, Кореи, Японии. И надо сказать, что учеба во ВГИКе для них — осознанный выбор, потому что они получают здесь фундаментальное образование. Судите сами: история зарубежной литературы преподается в течение трех лет. К тому же ВГИК — почти единственное кинематографическое учебное заведение, где обучают работе с пленкой и где студенты имеют возможность снимать на пленку. Уже со второго курса! Видео, цифра — это понятно, но это совсем иное. Вот в Пекине мощная киношкола, но студенты за пять лет снимают на пленку всего пять минут. У нас же здесь — просто киноклондайк.
Что касается молодой европейской режиссуры, то после далекого неореализма, «новой волны», пережитых протуберанцев качества уровень режиссуры там усреднился, и я не могу назвать какие-то яркие имена. В основном это стабильный общий поток.
— У нас картина схожая?
— Среди наших молодых режиссеров есть люди достаточно профессиональные, но уровень выражения художественной идеи стал намного ниже, к тому же профессия осваивается в основном подражательным образом. Увы, это клонирование того, что уже было. Я — благодарный зритель. Поэтому радуюсь, когда появляется что-то мало-мальски самостоятельное.
— Например...
— Например, фильм Хлебникова «Свободное плавание», картина Прошкина «Игры мотыльков». Это на меня производит впечатление, потому что я вижу самостоятельность среди общего подражательного потока. Но этого мало.
— Какими бы вы хотели видеть сегодняшних молодых людей, ваших студентов?
— Свободными. При поступлении во ВГИК абитуриенту задается вопрос: «Какой первый фильм вы хотели бы снять?» Раньше было много интересных ответов. Сегодня отвечают: «Я хотел бы снять «Титаник» или «Властелин колец». Ни слова о фильмах «Летят журавли», «Печки-лавочки»... Это — признак несвободы, зомбирования. Но я надеюсь, что сработает инстинкт самосохранения и молодежь будет свободнее. Это — необходимо, тем более что нынешней молодежи, студентам живется труднее, чем жилось нам.
— Труднее в чем?
— Они практически все подрабатывают. Иногда очень устают, это видно. Когда мы учились, мы могли быть бедными студентами, то есть жить практически без денег. Это как-то удавалось. Сейчас — нельзя. Прожить бедным человеком сегодня просто физически невозможно. В мое время ощущение вдохновенного голода было словно частью молодости, частью слагаемых того времени. Сейчас это нечто другое. Слагаемые бытия стали другими.
Архивная публикация 2007 года: "Инерция советского времени"
Известный кинорежиссер, профессор ВГИКа, народный артист России Вадим Абдрашитов рассказывает, как он противостоит дебилизации молодежи, а кое в чем приводит в пример Александра Лукашенко.— Вадим Юсупович, как у нас обстоят дела с подрастающим поколением творческой молодежи? Что происходит во ВГИКе?
— Идет очередная сессия, у нас сейчас 4-й курс. У нас — это у меня и двух моих коллег по преподавательской работе: режиссеров Аркадия Сиренко и Антона Васильева. Мы вместе когда-то учились у Ромма. Когда ВГИК привлекал меня к этой работе, я поставил условие: со мной должны преподавать «мои» люди. Благодаря этому нам удалось выстроить определенную систему принципов обучения.
— Это уже дало какие-то результаты?
— Говорить о результатах рано. Это — работа на будущее. Но когда у вас в мастерской есть два талантливых человека, это уже хорошая мастерская. Обучение — «парниковый» период перед выходом в реальную жизнь, после которого может все круто измениться. Когда мы учились, в институте были такие звезды, чьи работы даже сверкали на вгиковских фестивалях и которые потом просто погасли. Жизнь в этом смысле, и кино особенно, достаточно суровы.
— Что вызывает наибольшее беспокойство? Какая главная проблема обучения киноделу?
— Раз в 5 лет я встречаю новое поколение. Что очевидно: абитуриенты все хуже и хуже знают историю, литературу, кинематограф, театр... Это люди, которые по-своему бывают даже талантливы, но их общая культурная подготовка — на безобразно низком уровне. И если им начать задавать вопросы, которые задавались на экзаменах 5 лет назад, то сегодня некого будет принимать. Поэтому мы уже не просим, например, назвать имена трех сестер у Чехова, а спрашиваем (пока еще): «Как фамилия некого Евгения?»
— Ужасно! Но книги вроде бы сейчас общедоступны...
— Сокращение часов литературы в школьной программе — это гораздо серьезнее, чем вам кажется. А внедрение ЕГЭ, на мой взгляд, просто гибельно для российского образования... Особенно в его гуманитарной части.
— А какие вопросы задавали вам при поступлении во ВГИК?
— В 70-м году вопросы на вступительном экзамене были весьма серьезные: «Что из последнего прочли в толстых журналах?», «Какую последнюю выставку посетили?» Существовал и так называемый прогон по картинкам. Спрашивали о репродукции: «Чья это работа?» — «Гогена». — «А вы не помните, в какой галерее она выставлена?»; «А это чье полотно?» — «Иванова». — «В каком музее можно его увидеть?»; «Кто ваш любимый композитор?», «А почему?», «Где вы его слушали?» и т.д. То есть культурная подготовка требовалась довольно мощная. Я не думаю, что на экзаменах это имело решающее значение, но определенное все же имело.
— Есть ли разница в уровне подготовки между поступающими сегодня во ВГИК москвичами и приезжими?
— Конечно, и она очень выразительна, я бы даже сказал — примитивно выразительна. Есть абитуриенты, которые никогда не видели фильма «Броненосец «Потемкин». Мы разводим руками: «Как так?!» А нам отвечают: «А где? В кинотеатрах этот фильм не идет, ни в одном видеосалоне нашего города он не продается». Возразить нечего. В Москве в этом смысле жизнь проще. Иногда находятся даже молодые люди, которые ходят на выставки, знают, где находится Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
— Ну это же смешно...
— Это не смешно. Государство не беспокоят проблемы культурной образованности молодежи, и я подозреваю, что через 7—8 лет это скажется чудовищным образом. Можно многое ставить в упрек советской власти, но она порой поступала удивительнейшим образом. Так, во времена стагнации, году в 76-м, вышло знаменитое постановление ЦК о поддержке творческой молодежи. Это была сенсация. Конечно, мы тогда к этому по-другому относились, «ну, мол, поня-ятно». Но по теперешним временам — это просто фантастика! Госкино обязали как можно больше картин отдавать дебютантам, субсидировать картины. Молодым художникам давали мастерские, в приказном порядке вводили в литературу молодых... А поскольку происходило все это в тоталитарном государстве, то результаты выглядели впечатляюще масштабно.
— А есть ли что-то общее у сегодняшних ребят с поколением 60—70 годов? Или, как пел Окуджава, «у каждой эпохи свои подрастают леса»?
— Я могу говорить только о своих студентах, а ВГИК — дело особое. Люди, туда поступающие, априори амбициозны. Если сравнивать с поколением, которые пришло за «шестидесятниками», с нашим поколением, то у многих сейчас отсутствует сам процесс поиска путей самореализации, в том числе, в творчестве. Это не означает, что в 60—70-х годах все толпами занимались этой самореализацией и были универсально образованными. Главное — было совпадение развития каждого из нас, молодых, с расцветом, ренессансом 60-х годов. И подобного совпадения хочется пожелать каждому молодому человеку. Прекрасно, когда твоя молодость совпадает с молодостью страны, пусть даже с какими-то оговорками. «Оттепель» так подействовала, что очень много молодых людей, далеких от искусства, литературы, но творчески живых, стали себя реализовать по возможности везде: в КСП, фотографии, многотиражках, кинолюбительстве, народных театрах... Сегодня приоритеты другие. Развитие идет, но то, что происходит вокруг, я бы не назвал расцветом, мягко говоря.
— Как же выкручиваетесь вы, педагоги, обучая теперешнюю «сырую» молодежь?
— Говоря прямо, сегодняшний чрезвычайно низкий уровень поступающих во ВГИК нам, педагогам, мастерам, очень затрудняет жизнь. Массу времени мы тратим на латание этих лакун. Например, следующим образом. В конце летнего набора, когда сформирована мастерская, приглашаем в аудиторию этих 20 человек, с кем предстоит прожить 5 лет, и говорим: «До начала учебы у вас впереди месяц. За этот месяц вы должны прочитать следующие произведения: Толстой — «Воскресение» и «Анна Каренина», Тургенев — «Отцы и дети», Лермонтов — «Герой нашего времени»...
— То есть список обязательной школьной программы?
— Именно. Делается это только потому, что с первого дня работы мы должны иметь со студентами какой-то общий язык, у нас должны быть какие-то общие мифологемы. Условно говоря, студенты должны понимать, когда им говорят: «Что это она тут изображает Наташу Ростову, когда это Катюша Маслова!» В общем, хоть как-то... Сейчас, на 4-м курсе, рекомендуем, иногда и заставляем: съездите в Манеж на выставку фотографий Родченко, зайдите в библиотеку, возьмите «Новый мир», там есть то-то интересное. Разумеется, я осознаю, что это не столько вина, сколько беда поступающих. Слава богу, во ВГИКе еще остались педагоги, которые дают фундаментальную основу гуманитарного образования. ВГИК этим силен до сих пор. Слава богу, есть пока что в России педагоги-бессребреники, готовые отдать себя целиком, которые взволнованным голосом рассказывают о Гомере или об Эйзенштейне, которые работают просто даром. Это унизительно, когда зарплата педагога — менее 3 тыс. рублей в месяц. Мои друзья, с которыми я вместе работаю, трудятся из каких-то альтруистических соображений: тех копеек, которые они получают, не хватает даже на бензин, чтобы доехать до ВГИКа. Это инерция советского времени. Напрашивается вопрос: а каким образом в дальнейшем можно будет привлекать к этой работе людей? Хорошо, вот вроде бы государство обратило внимание на науку, хотя и здесь не все благополучно. Но вот отряд гуманитариев, творческие вузы — что с этим-то делать? Неужели нельзя повысить зарплаты? Ведь именно педагогам приходится одолевать бескультурье и безграмотность поступающих. А это сегодня — одна из двух основных проблем обучения в творческом вузе. И вообще, думаю, в жизни.
— В чем вторая проблема?
— Она в том, что, по существующему закону, второе высшее образование в России — платное. Во ВГИКе, например, нужно ежегодно платить за обучение $5—6 тыс. И это не подпускает к институту огромное число людей, которые вполне могли бы учиться, обладающих пусть минимальным, но уже накопленным жизненным опытом. Однако по сегодняшнему положению самый идеальный абитуриент — это вчерашний школьник. Вот он имеет право на бесплатное обучение во ВГИКе. Это славные, милые, подчас талантливые ребята, но режиссура, равно как и сценарное дело, требует хотя бы минимального жизненного опыта. Что эти ребята будут делать на сценической площадке? Что будут снимать для экрана? Они переживают в этот период половое и социальное созревание, пытаются определить свое место в социуме. И все это делают подчас с большим энтузиазмом со своими друзьями по операторскому и актерскому цеху. И получается такая милая штучка, иногда даже неплохо сделанная. Но она не представляет никакого интереса для зрителя, потому что это — детский лепет в буквальном смысле этого слова.
— В каком возрасте вы сами поступили во ВГИК?
— Когда я поступил, мне было 25 лет. Я был уже взрослым дядькой с опытом, и при этом на курсе были люди старше меня, среди них — профессиональный боксер, летчик-реактивщик, театральный актер... И среди нас — два 17-летних молодых человека. Такой возрастной разброс представлял оптимальный расклад. Сейчас этого не происходит, потому что за второе образование надо платить, а у 23-летних часто уже есть семья, дети. Какие, к черту, $6 тыс. в год, когда на жизнь не хватает! Есть люди, которые поступают на коммерческое отделение, а потом уходят. От меня за эти годы ушли по этой причине четыре талантливых человека. Но почему нельзя сделать исключение для двух фундаментальных, смыслообразующих специальностей: драматург и режиссер? То же самое происходит в театральных вузах. Это — общая беда, если не катастрофа. То же самое — в Литинституте. Поразительно, даже в консерватории — та же проблема, когда речь идет о специальности дирижера...
— Обращения к властям предержащим были?
— И неоднократно! И ректоры институтов писали, и мастера. В Минфин, Министерство культуры, Думу... Как об стенку горох. Все это уходит, как в песок, просто до безобразия без всякой реакции! А ведь на это не нужно дополнительных средств. Просто разрешить людям с высшим образованием претендовать на бюджетные места. Я сам участвовал в переговорах с представителями думского комитета по образованию, и вроде уже начали договариваться о каких-то фазах, но все без толку. Между прочим, в Белоруссии этот вопрос решен. Лукашенко в эту проблему вник, и теперь их закон звучит так: «...Второе высшее образование — платное, — запятая, — за исключением всех творческих специальностей». Всех. Запятую поставили в нужном месте. На самом деле это — чрезвычайно важно. Инфантилизм поступающих потом виден на экране. Пустота экранных мыслей и чувств объясняется по большей части этим.
Я начинаю задумываться: может, это власти нужно? А то молодые начнут задавать какие-то вопросы, снимать что-то не то. Может, это часть общего процесса дебилизации, которая идет с помощью ТВ и всей масс-культуры?
— Союз кинематографистов тоже молчит?
— Союз мог бы обратить на это внимание. Если бы он был нормальным, единым сообществом, наверняка уже не один чрезвычайный пленум был бы созван. Об этом громко говорилось бы со страниц газет, журналов: «СК вкупе с Союзом театральных деятелей, Союзом писателей, Союзом композиторов чрезвычайно озабочен...» Но нынешний Союз занят совсем не тем. Это ему не нужно.
— В кино и тем более в телевидение сегодня вкладываются очень немалые средства...
— ...но телевидение и заказывает музыку. В основном достаточно примитивную.
— Поэтому хорошие фильмы идут ночью.
— Именно. И когда мне говорят: рейтинг, рейтинг, я понимаю, что это бред. Это все надуманно. А может быть, это делается для того, чтобы не было сравнений. Было бы странно увидеть какую-нибудь замечательную картину, к примеру, «Механический апельсин» — о насилии, с насилием, и тут же — наш сериал о каких-то бандитах. Даже не очень образованный человек начнет сравнивать. А зачем это нужно? При полной монополии власти на ТВ нам показывают то, что одобрено и инспирировано властью. Зрителя приучают к бездумному, бездарному ТВ, и он в конце концов перестает удивляться. И что будет за зритель через 10—20 лет? А ведь все это напрямую связано с нравственным здоровьем общества. Интересно, сработает ли у общества инстинкт самосохранения? Я не знаю.
— Наверное, нужно как-то сориентировать зрителя в секторе предпочтений?
— Конечно, должно происходить внедрение культуры. Может быть, даже на уроке основ киноискусства в школе. Кстати, то же телевидение могло бы взять эту функцию на себя. Это вопрос об отношении власти к культуре и к образованию. Инфантилизм и низкое качество — вещи самовоспроизводящиеся. Они питают, в свою очередь, молодых, а те повторяют, возводят все это в квадрат, в куб... Иногда видишь молодого талантливого человека, и его просто жалко: он еще недообучен, но уже отравлен массовой культурой. А может быть, власть и не захочет думать о внуках и правнуках, потому что она сама рожает за рубежом, обучает за рубежом...
— Звучит не очень оптимистично...
— Я как раз оптимист. И говорю об этом только потому, что оптимист.
— Во ВГИКе обучаются и иностранные студенты. Как вам уровень молодого западного кино?
— К нам приезжают учиться из многих стран Европы, есть студенты из Китая, Кореи, Японии. И надо сказать, что учеба во ВГИКе для них — осознанный выбор, потому что они получают здесь фундаментальное образование. Судите сами: история зарубежной литературы преподается в течение трех лет. К тому же ВГИК — почти единственное кинематографическое учебное заведение, где обучают работе с пленкой и где студенты имеют возможность снимать на пленку. Уже со второго курса! Видео, цифра — это понятно, но это совсем иное. Вот в Пекине мощная киношкола, но студенты за пять лет снимают на пленку всего пять минут. У нас же здесь — просто киноклондайк.
Что касается молодой европейской режиссуры, то после далекого неореализма, «новой волны», пережитых протуберанцев качества уровень режиссуры там усреднился, и я не могу назвать какие-то яркие имена. В основном это стабильный общий поток.
— У нас картина схожая?
— Среди наших молодых режиссеров есть люди достаточно профессиональные, но уровень выражения художественной идеи стал намного ниже, к тому же профессия осваивается в основном подражательным образом. Увы, это клонирование того, что уже было. Я — благодарный зритель. Поэтому радуюсь, когда появляется что-то мало-мальски самостоятельное.
— Например...
— Например, фильм Хлебникова «Свободное плавание», картина Прошкина «Игры мотыльков». Это на меня производит впечатление, потому что я вижу самостоятельность среди общего подражательного потока. Но этого мало.
— Какими бы вы хотели видеть сегодняшних молодых людей, ваших студентов?
— Свободными. При поступлении во ВГИК абитуриенту задается вопрос: «Какой первый фильм вы хотели бы снять?» Раньше было много интересных ответов. Сегодня отвечают: «Я хотел бы снять «Титаник» или «Властелин колец». Ни слова о фильмах «Летят журавли», «Печки-лавочки»... Это — признак несвободы, зомбирования. Но я надеюсь, что сработает инстинкт самосохранения и молодежь будет свободнее. Это — необходимо, тем более что нынешней молодежи, студентам живется труднее, чем жилось нам.
— Труднее в чем?
— Они практически все подрабатывают. Иногда очень устают, это видно. Когда мы учились, мы могли быть бедными студентами, то есть жить практически без денег. Это как-то удавалось. Сейчас — нельзя. Прожить бедным человеком сегодня просто физически невозможно. В мое время ощущение вдохновенного голода было словно частью молодости, частью слагаемых того времени. Сейчас это нечто другое. Слагаемые бытия стали другими.
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".