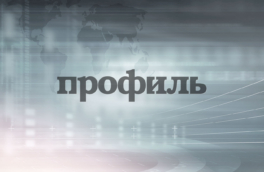Первое, что видит гость, выходя на площадь перед махачкалинским аэропортом – триумфальная арка в честь 200-летия присоединения Дагестана к России, одна из опор которой выполнена в виде фрагмента московского Кремля, а вторая – в виде стилизованной горской башни. В 2013 году аркой отметили 200-летие Гюлистанского договора между Россией и Ираном, который формально закрепил Дагестан за российской монархией. Но между Гюлистаном и реальным покорением Дагестана оказалось еще много лет кровопролития. А присоединение, которое покорению не равнозначно, пожалуй, до сих пор под вопросом. Проблемы Дагестана – один в один проблемы остальной страны. Но решаются они там явно иначе.
Дагестан открыл колени
Арка – не единственная новость. В Дагестане, кажется, неуловимо меняется настроение. Отчаяние, которое определяло эмоциональный ландшафт последних нескольких лет, уступает место сдержанному оптимизму людей, понимающих, что в целом свете у них нет другой родины, и уставших ждать помощи от федеральной власти. Возможно, Дагестан снова оттолкнулся от дна.
Перемены замечаешь уже в самолете. Конечно, солидных мужчин в черных костюмах и широкоплечих спортсменов в тренировочной одежде, которым русские стюардессы откровенно побаиваются делать замечания о спинках кресел и мобильниках, по-прежнему хватает. Но дагестанские рейсы вдруг стали чем-то похожи на бакинские или даже стамбульские. Толпа пассажиров стала пестрой. В ней теперь есть люди с внешностью свободных европейских художников, молодые мусульмане, которые смотрятся как московские хипстеры, и даже путешествующие в одиночку красивые молодые женщины с открытыми коленями.
Мертвый нарост на живом дереве
Дагестанский контраст между информационным фоном, к которому привыкаешь в Москве (из новостей кажется, что в республике война), и реальной жизнью, в которой Махачкала оказывается мирным, живым, доброжелательным и очень динамичным городом, всегда поражает.
Но на выезде из аэропорта на скоростное шоссе в город стоит пост, усиленный БТРом. «Вежливые люди» останавливают примерно каждую третью машину из тех, что разлетаются после встречи предпоследнего ночного рейса. Водители подтверждают все, что мы знаем о дагестанской манере вождения, а пост – то, о чем мы привыкли читать в новостях.

Но пост все равно только мертвый нарост на живом стволе бурно цветущего дерева. Машина летит сквозь зону нелегальной стихийной застройки, которой Махачакала, удвоившаяся по площади и населению за последнее десятилетие, обросла по краям. А потом вкатывается на ярко освещенные улицы пригорода, с бесчисленными новыми домами, мечетями, магазинами, гостиницами, кафе, банкетными залами.
Хиджаб под руку с мини
В Дагестане живет около трех миллионов человек, и треть из них уже в Махачкале. Город отчасти становится селом, но и вчерашние горцы становятся горожанами.
Несколько лет назад Махачкала начала менять облик в соответствии с привычками и верой своих новых жителей: на улицах неуклонно росло число женщин в хиджабах, из меню городских кафе постепенно исчезал алкоголь.
Среди рекламных плакатов и сейчас попадаются строгие религиозные изречения – о непростительности многобожия или о том, что богу угоден лишь тот правитель, который приносит пользу народу, а не самому себе. Но в городе снова легко найти кружку пива в знойный полдень, а «закрытые» девушки прогуливаются под ручку со своими подружками в мини. Эти контрасты заставляют предположить, что ислам, войдя в силу и став абсолютным мейнстримом дагестанской жизни, стал более обаятельным и, возможно, терпимым.
В Махачкале говорят, что отчасти этот рецидив открытости — заслуга главы республики Рамазана Абдулатипова, которому дороги воспоминания о советском Дагестане, а отчасти – эффект приезда в отпуска и на каникулы дагестанцев, живущих и работающих за пределами республики. Так или иначе, эта смена облика усиливает ощущение, что Махачкала нацелена в будущее, наступлению которого едва ли могут помешать вооруженные люди на блокпостах и те, кому они, как предполагается, противостоят.

Пытки, взрывы, похищения
Мы привыкли считать, что в роли противника выступают вооруженные люди, которых силовики то и дело застают в домах на окраине за подготовкой очередного теракта. Они начинают отстреливаться с криком «Аллах акбар!» Силовики подтягивают бронетехнику, и через несколько часов отчитываются о ликвидации очередного полевого командира.
Но иногда в роли противника оказываются совершенно неожиданные люди – например, директор сельской средней школы или бывший полковник ФСКН.
Теперь уже бывший директор средней школы селения Согратль, 42-летний Сулейман Энхов – под следствием, а 44-летний бывший полковник ФСКН Мухтар Агаев погиб. 8 июня этого года его обгоревшее тело со следами пыток извлекли из взорванной машины – через два дня после того, как знакомые последний раз видели Агаева в Махачкале живым и здоровым. Эпизод с машиной было официально квалифицирован как самоподрыв. Хотя трупы бывших офицеров со следами пыток не каждый день достают из подорванных машин даже в Дагестане, эта история не вошла в отчет о последней контртеррористической операции в Согратле, длившейся с 15 мая по 24 июня.
Родина погибших журналистов
Согратль — аварское село в Гунибском районе, в тех самых краях, где в сентябре 1741 года объединенное дагестанское ополчение разгромило персидскую армию грозного Надир-Шаха.
«Согратль был частью Андалалского вольного общества, — не без гордости рассказывает пожилой согратлинец Магомед. – Андалалцы были главной частью войска, которое одолело Надира. Это была битва между свободой и феодализмом. И в 1877 году восстание Восточного Кавказа началось у нас. Согратлинцы не хотели к нему присоединяться, наш шейх Абдуррахман-гаджи говорил, что воевать с русскими бессмысленно. Но его обвинили в трусости, и тогда он отправил своего сына командовать повстанцами. А в итоге, когда восстание подавили, Согратлю досталось больше всех – село сожгли, жителей выслали, а вернуться разрешили только в 1881-м, когда новый царь, Александр III, объявил амнистию. В остальном Дагестане считают, что мы и к восстанию подстрекали, и стали причиной его разгрома. Есть даже поэма: «Нежданно согратлинцы злу отворили дверь».
Почти каждое дагестанское село имеет свою традиционную специализацию, и согратлинцы не без оснований считают, что в их случае это образование, политика – и журналисты, которых убивают за их работу. Пятеро из погибших за последние годы дагестанских журналистов, в том числе Малик Ахмедилов, Хаджимурад Камалов и Ахмеднаби Ахмеднабиев, как и убитый в 2005 году политолог Загид Варисов, родились в Согратле. Многие в Дагестане считают, что все они пали в битве за свободу против феодализма – в его современном варианте.

Под прицелом
Как и все горные села, Согратль постепенно «стекает» на равнину. В самом селе и на хуторе-спутнике живет чуть больше 1300 человек. На кутанах – зимних равнинных пастбищах, которых у Согратля 14, – еще примерно столько же. При этом 70% сообщества живет в городе – 1000 хозяйств в Махачкале и еще около 100 в Кизилюрте.
На сломе десятилетий, когда нулевые менялись на десятые, на Согратль многие в Дагестане смотрели как на образец. В старинном селе, с опорой на «оперившиеся» в экономическом плане сообщества в городах, сложилась эффективная схема местного самоуправления в виде общества, а затем общественного фонда «Согратль». Общество создали еще в конце 1980-х, но ощутимых успехов, замеченных другими дагестанскими муниципалитетами, добилось в 2000-е. Фонду удалось посодействовать устройству сельского водопровода, обеспечив общественный контроль за выделенными средствами, потом возродить местную школу, а потом начать решать вопрос правового оформления земель бывшего колхоза на равнине, которые оказались по факту приватизированы несколькими бывшими колхозными функционерами.
Вопрос прав на землю очень остро стоит в Дагестане, где, боясь обострения этнических трений, до сих пор не провели земельной приватизации. Одна из самых больных тем – как раз принадлежность земель отгонного животноводства, которые советская власть выделяла горным обществам в качестве зимних пастбищ. Теперь временные сезонные поселения стали постоянными, и это вызывает трения между их обитателями и коренными жителями равнины. В десятках конфликтных ситуаций обе стороны тщетно предъявляют друг другу старые советские постановления на полуистлевшей бумаге с серпом и молотом. Но системы, в которой эти споры могли бы быть законно урегулированы – нет: легальный рынок земли отсутствует, по факту она находится в распоряжении современных «феодалов», те манипулируют в том числе и судом, которому, соответственно, перестают верить.
Согратль со своим мощным самоуправлением искал приемлемые способы защиты своих земельных интересов – и, возможно, поэтому оказался не только в центре внимания, но и под прицелом недоброжелателей. Под прицелом – в буквальном смысле.
Раз салафит – значит боевик
Примерно со второй половины 2000-х стало принято обращать внимание на то, что костяк согратлинского «актива» – салафиты. Изначально это самоназвание тех, кто придерживается так называемого «чистого ислама». Его нельзя с полным основанием считать полностью импортированным из стран Ближнего Востока. К салафитам стало принято относить мусульман, не признающих духовного авторитета убитого в августе 2012 года суфийского шейха Саида-эфенди Чиркейского.
Последователи шейха все еще деморализованы его смертью, тем более, что свое сакральное знание, наследуемое, как считают суфисты, непосредственно от пророка, Саид-эфенди передал аж шестерым преемникам, один из которых уже умер. Число преемников создает некоторое замешательство среди последователей, но в Дагестане их все еще устойчивое большинство, они удерживают под контролем республиканский муфтият и не слишком склонны к диалогу с теми, кто верит и молится иначе.
А те, кто воюет против власти с оружием в руках, считаются салафитами. И хотя это не во всех случаях так, сложилась привычка считать потенциальными боевиками всех, кто объявляет себя салафитами, и объявлять салафитами всех, кто так или иначе мешает представителям власти и их клиентам решать свои карьерные, финансовые, политические и прочие жизненные задачи.
Сельские сообщества против коррупции
«Вы салафит?» — спрашиваю я бывшего директора согратлинской школы Сулеймана Энхова. Он уклоняется от прямого ответа: «Я вообще не очень большое значение придаю этим вещам. Я окончил математический факультет Дагестанского госуниверситета, служил офицером в армии в Кемерово. Потом до 2007 года занимался недвижимостью в Махачкале. Примерно в это время совет аспирантов – согратлинцев решил восстановить нормальное преподавание в согратлинской школе, и они позвали меня учителем физики, сначала на два дня в неделю. Я согласился, получал за это 2700 рублей в месяц».
Работающие сельские комьюнити Дагестана вообще производят сильное впечатление на тех, кто привык к ситуации разрушенного сообщества, характерной для средней России. Здесь же сообщества легко берут на себя часть задач, которые не в состоянии решить государство, локальная версия которого все больше озабочена «феодальными» интересами собственных чиновников. Согратлинская школа, которой начало помогать сообщество, сохранила физико-математические и химико-биологические специализации в старших классах, обзавелась компьютерными классами. После того, как «салафит» Энхов стал директором, согратлинская средняя школа оказалась на 65-м месте среди 1700 дагестанских школ и гордится тем, что не допустила у себя в 2013-м никаких типичных для Дагестана злоупотреблений с ЕГЭ.
Таким же образом согратлинцы пытались мобилизовать врачей – это вообще практика, набирающая в Дагестане популярность. Сельские сообщества обращаются к односельчанам, добившимся успеха в той или иной области медицины, с настойчивой просьбой вернуться в село – иногда врачом, а иногда – имамом мечети.
Когда врач приезжает, выясняется, что в соседних селах, в радиусе минут сорока езды на машине, уже есть специалисты смежных медицинских специальностей. Возникает своеобразная земская клиника. Общины приплачивают своим врачам, чтобы они могли позволить себе достойное существование. Так по кирпичикам разбирается система, в которой взятка нужна была даже для того, чтобы завести карту в регистратуре. И создается новая, в которой, к примеру, травматолог в ответ на традиционный вопрос родственников очередного пациента, чем его благодарить, отвечает: «Просто купите для кабинета три или четыре аппарата Елизарова».
Решать так же вопросы приобретения более сложной техники и лекарств, конечно, сложней, но это все равно рабочая схема, которую люди делают для себя сами. Ее проблема в том, что устроена она вопреки власти, которой удобней иметь дело с главврачом, купившим должность и отбивающим ее за счет пациентов. Вторая проблема в том, что она не воспроизводима там, где комьюнити мертвы – например, где-нибудь под Псковом.
Власти стали бить лежачих
«Салафиты – это кличка, ярлык, который приклеивают для того, чтобы решить кадровые вопросы, как им надо, – говорит Магомед из Согратля. Судя по седой бороде, ему за 60. – Мы, кто постарше, пережили события 1999 года. Мы понимаем: то, что называется уходом в лес, – это вредная позиция. Но молодежь 19–20 лет легко попадается на эту удочку. Они считают нас слабаками. Главная ошибка в том, что государство поддержало одну сторону против другой в споре, который вообще-то решается в мечети».
Конвейер насилия, считает Магомед, возник после событий 1999 года. В селе Карамахи, откуда федералы две недели выкуривали боевиков Басаева, салафиты взяли власть в свои руки за несколько лет до событий, но их всегда было меньшинство. «После разгрома власти стали, образно говоря, «бить лежачих», – говорит Магомед. – Был создан ажиотаж, в каждом селе составляли списки салафитов, придирались к тем, кто элементарно делал утренний намаз. В итоге появились мстители, типа Расула Макашарипова. И те, кто сперва бил лежачих, сильно удивились, что они, оказывается, не в безопасности. Потом большую часть амиров выбили. Сейчас в лесу есть идеология, но нет боеспособности. Но почти никто не сдается властям. Да они и не стремятся брать кого-то в плен – проще ликвидировать».
История одного полковника
Из тысячи трехсот жителей Согратля «ушедшими в лес» числятся шестеро. Из них двое оказались в машине, сгоревшей 8 июня – таксист Шафи и Мухтар Агаев, бывший полковник ФСКН, некогда сам участник спецопераций против боевиков, который однажды попытался провести собственное расследование убийства согратлинского журналиста Малика Ахмедилова (август 2009 года).
Эта попытка кончилось обвинением Агаева в покушении на убийство согратлинской «шишки» – дагестанского политика и владельца фирмы «Согрнефть» Шамиля Исаева. Не нужно быть экспертом по дагестанской политике, чтобы понять, что тень убийства журналиста и уголовного процесса по делу Агаева как минимум затрагивает Исаева. Исаев, сам влиятельный мужчина и обладатель обширных связей в Махачкале, Москве и Краснодаре, комментариев предпочитает не давать. Но в селе многие уверены, что Исаев претендует на роль «феодального» хозяина Согратля. Главным препятствием на пути к этой цели все время оказываются активисты фонда «Согратль». Как принято считать, салафиты.
Агаев, который не отрицал, что считает себя салафитом, год провел в тюрьме по обвинению, которое Верховный суд Дагестана в итоге объявил несостоятельным. После этого он уже не вернулся на службу в ФСКН, а стал одним из общественных активистов, пытаясь не только фермерствовать, но и продолжать свои собственные расследования. Даже те в Согратле, кто к салафитам себя не относит и считает, что фонд изрядно перегибал палку, — а таких в селе немало, – полагают, что Агаев едва ли имел отношения к боевикам.
Тем не менее, он, как и исчезнувший вместе с ним за двое суток до взрыва машины Шафи числятся среди ушедших в лес. Также ушедшими и не вернувшимися считаются двое согратлинцев, убитых в спецоперации у села в прошлом году. «До 2013 года никаких боевиков в этих местах не было, – говорит Расул, зампред совета старейшин Согратля, респектабельный мужчина в очках и с аккуратными усами. – Такое впечатление, что эту группу специально направили под Согратль. Один из тех, кто был убит, давно уехал из села, учился в Москве и, похоже, там и попал под влияние «лесных».
Взрыв и засада
Спецоперация в 2013-м стала для села резким поворотом к худшему. Кульминация же наступила в мае–июне этого года – и она, похоже, не пройдена до сих пор, хотя режим КТО, который действовал в Согратле с 15 мая, 24 июня был официально снят.
В ночь с 8 на 9 мая в центре села был подорван памятник воинам Великой Отечественной. Ущерб невелик – устройство закрепили на тыльной стороне монумента, взрыв выбил несколько камней, никто не пострадал. Согратлинцы недоумевают: в порядке подготовки ко Дню Победы весь центр села оборудовали видеокамерами и усилили полицейскую охрану. Но именно в ночь подрыва камеры бездействовали.
15 мая в Согратль направилась полицейская колонна. Между Чохом – соседним аулом, из которого вышло беспрецедентное для Дагестана количество офицеров царской армии, и Согратлем колонна попала под огонь с обочины. Трое полицейских были убиты, еще восемь ранены. В районе ввели КТО.
Директор с гранатой
«Я повез мать в районную больницу в Гуниб, — рассказывает Энхов. – Она давно собиралась, но в тот понедельник у меня было совещание в школе, а во вторник и в среду я был с лучшими учениками на экскурсии по Дагестану. В четверг, 15-го, мы поехали в Гуниб и попали на место боя. Дорога была блокирована, знакомые полицейские попросили вывезти раненых, и я посадил в машину троих. Хотя у них были вертолеты, они так и не нашли или не захотели найти тех, кто устроил засаду. А 17 мая у меня и, как я знаю, еще у двоих жителей, во время обыска в доме нашли гранаты».
18 дней директор школы, выпускники которой в это время отмечали последний звонок и сдавали первые тесты ЕГЭ, провел в различных изоляторах Дагестана: «Везде были кабинеты без вывесок, в которых сидели люди, задававшие мне один и тот же вопрос: почему вы здесь оказались?» Вместе со мной там были десятки людей разного возраста, и все по трем статьям – 222-я (хранение оружия), 228 (наркотики) и 208 (организация незаконного формирования). У всех, кто проходил по оружию, находили гранаты. Почти все они вернутся – или развалится обвинение, или будет условный срок, или даже реальный. Сейчас часть этих обвинений надуманная, все это понимают. И когда они выйдут, они будут реально ненавидеть эту систему. Их десятки. Мне страшно за Дагестан».
Энхов в итоге признал, что граната, найденная у него в доме оперативниками — его. Он уверен, что суд, где все помнят, как салафит Энхов директорствовал в школе и создавал там компьютерные классы, пройдет по упрощенной схеме, и ему дадут условный срок. 16 мая, за день до его ареста, глава районного отдела образования издал распоряжение об увольнении Энхова с должности директора. Выйдя из СИЗО, он сам написал заявление об уходе – задним числом, 10 мая. 24 июня было объявлено о завершении КТО в Согратле. Итог почти полутора месяцев спецоперации – двое убитых боевиков – один в лесу близ села, один в Махачкале. Два трупа из сгоревшей 8 июня машины, вероятно, не в счет.
До отчета силовиков за согратлинскую КТО в селе считали, что за 15 лет было убито 16 человек – в том числе пятеро журналистов и пятеро из тех, кто ушел в 1999-м году на войну против федералов в Карамахи и потом в Чечню. Понятно, что в Москве в неделю больше людей гибнет за неделю в ДТП. Но маленький Согратль – не Москва.

Пистолет и «Демократия»
А в огромной постоянно бурлящей Махачкале согратлинской истории почти не замечают. В том числе потому, что одновременно или с небольшой разницей во времени происходят и другие похожие. Но именно в Махачкале, вопреки подобным историям, возникает ощущение, что стронулся с места баланс сил, к которому все привыкли за последние годы. Те, кто называет себя салафитами, сейчас в положении самой модной городской субкультуры. Не чиновники, не силовики, не бандиты и не спортсмены, а именно эти ребята, гордящиеся строгостью своей веры, становятся самым крутым социальным примером.
Они сидят в городских кафе, пьют чай литрами, смотрят матчи чемпионата мира по футболу, спорят о том, стоит ли болеть за Россию, и вообще беспрерывно общаются. В открытом кафе в так называемом Собачьем парке — одном из тех, кто остались от сети кафе, ликвидированной властями в связи с тем, что хозяин, персонал и большинство гостей считались салафитами, — вечером составляют вместе три или четыре стола. За ними собираются люди, которых подозревают в причастности к запрещенной в России группе «Хизб-ут-Тахрир», и люди, которые по семь лет провели в каирском университете Аль-Азхар да так и забыли сменить каирский костюм на что-нибудь более привычное для Махачкалы. Люди, которые просили президента Путина разрешить в Москве миллионный митинг против исламофобии, и люди, которые создают в Махачкале новые медресе. Люди, которые открывают кафе, люди, которые открывают юридические консультации, люди, которые открывают пользующиеся бешеной популярностью бутики мусульманской одежды для женщин «Просто покройся!» – и еще другие разные люди.
Они шутят друг с другом: «Эй, мы же с тобой договаривались, что меня посадят, а убьют тебя!» На фоне историй учителя и офицера из Согратля это понятный черный юмор. Но под дружный хохот, который подхватывают соседние столики, снова кажется: баланс сил сменился. Будущее, похоже, уже не зависит от того, скольких из них еще посадят, а скольких убьют.
Вместо того, чтобы бояться и скрываться, они сидят и хохочут в популярных кафе. Сила этих людей в том, что они дома. У них есть и представление о том, как именно должен быть устроен этот дом, и готовность его обустраивать – если надо, то даже ценой жизни и свободы.
Этот дом, вероятно, будет еще меньше, чем сейчас, похож на остальную Россию. Многие не без оснований боятся уверенности этих ребят в своей правоте. Их картина мира, пожалуй, не может не быть несколько средневековой – ведь она целиком базируется на исламской догматике. Но когда они, один за другим, уходят на вечерний намаз в молельную комнату, на торце длинного общего стола обнаруживается классика актуального дагестанского натюрморта: пистолет в кожаной черной кобуре и книжка Чарльза Тилли «Демократия».