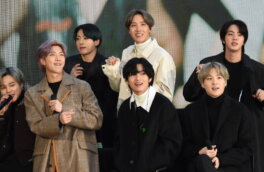Кто и зачем в Америке сегодня изучает и пропагандирует русский язык

13 марта 1947-го президент США Гарри Трумэн распорядился учредить при Госдепартаменте Институт дипломатической службы (Foreign Service Institute – FSI). Годом ранее Уинстон Черчилль произнес «фултонскую речь», положившую, как считается, начало холодной войне. Для победы над Советским Союзом американцам необходимо было начать узнавать мир во всем его многообразии, в том числе языковом, чуть быстрее, чем они это делали в предыдущие столетия. Только что созданный институт должен был учить дипломатов и тех, кто хотел ими стать, премудростям международных отношений и предлагал курсы по изучению 13 языков. Все языки были поделены на четыре категории в зависимости от сложности их освоения англоговорящими: в категории I – языки, «родственные английскому» (голландский, испанский, французский); категория II – «языки, освоение которых занимает немного больше времени, чем изучение языков категории I» (немецкий, суахили, или индонезийский); третья категория – «языки со значительными лингвистическими и/или культурными отличиями от английского» (турецкий, хинди); наконец, в четвертую категорию были определены языки, «представляющие особую сложность» (арабский, китайский, корейский, японский). Язык главного противника был помещен в третью, «умеренно сложную», категорию: для освоения русского на разговорном уровне лингвисты Госдепартамента отводили 900–1100 часов (для языков I и II категории – 600–750 часов; IV – свыше 2200 часов).
Еще через четыре года, в 1951-м, специализированное языковое подразделение потребовалось другому ведомству – при ЦРУ был создан Институт изучения иностранных языков для нужд разведки (Intelligence Language Institute), где, разумеется, тоже преподавали русский. В конце 1960-х собственную метрику оценки языковых компетенций – DLAB (Defense Language Aptitude Battery) – разработал Пентагон. У военных русский тоже попал в третью категорию как язык, «представляющий вызов для англоговорящего».
Насколько сегодня велик в Китае интерес к изучению русского языка
Семь десятилетий в стенах этих учреждений и нескольких университетов американцы готовили армию профессиональных советологов со знанием русского языка. После исчезновения СССР с политической карты мира эта армия оказалась не нужна. В 1990–2000-е кандидатских диссертаций и академических работ по России стало гораздо меньше, на профильных кафедрах сократилось число преподавателей-русистов и количество языковых и предметных курсов по России. Исследовательских поездок в нашу страну стало меньше, а сами они – короче. Русский не выпал из госдеповской системы «критически значимых языков» (critical language), но сперва теракты 11 сентября 2001 года повысили спрос на специалистов с арабским, а после «поворота в Азию» в конце 2000-х наибольшей востребованностью стали пользоваться синологи.
И все же включение России в перечень главных противников Америки (наряду с Китаем, Ираном и КНДР) вынуждает американские власти поощрять изучение русского языка в университетах и сохраняет его востребованность у госструктур. Госдепартамент по-прежнему предлагает государственные стипендии и гранты для пополнения своих рядов сотрудниками со знанием «великого и могучего». Правда, даже сейчас эти программы не слишком популярны среди студентов – российское направление не воспринимается как перспективное в карьерном плане. Те же, кто все-таки выбирает его, по большей части не концентрируются на изучении только России, а расширяют сферу региональной специализации – Центральная Азия, Южный Кавказ, Восточная Европа.
Политические обстоятельства – важный, но не единственный фактор распространения русского в Соединенных Штатах. Может, даже и не основной. Современная Америка – это 333,3 млн граждан, говорящих на 350 языках, из которых русский по числу носителей занимает 9-е место. Во многом это связано с увеличивающейся численностью русскоязычных в США: с 855 тыс. человек в 2010 году – тогда русский был на 12-м месте – до 940 тыс. в 2022-м. Русскоговорящая община Америки формировалась в пять волн: после революции 1917 года; после Второй мировой войны; т. н. еврейская эмиграция из СССР в 1970-х; перестройка (конец 1980-х – первая половина 1990-х) – наиболее крупный приток эмигрантов в почти 300 тыс. человек; и конец 2010-х. Начиная с 1980-х использование русского языка в американских домохозяйствах выросло на 393%. Сегодня больше всего русскоязычных в десяти штатах: Нью-Йорк (358 тыс.), Калифорния (355 тыс.), Флорида (196 тыс.), Пенсильвания (162 тыс.), Нью-Джерси (153 тыс.), Иллинойс (106 тыс.), Массачусетс (92 тыс.), Вашингтон (83 тыс.), Техас (75 тыс.) и Огайо (63 тыс.).
То, что русский входит в первую десятку языков Америки, может кого-то обнадеживать, но, как говорится, есть нюансы. Дело в том, что русскоязычные, по крайней мере на первых порах, не очень охотно интегрируются в американское общество и предпочитают селиться «среди своих». Тремя основными препятствиями к переходу на английский русскоговорящие называют «стеснение говорить на английском и делать ошибки», недостаток занятий по английскому как второму иностранному и «российский социальный контекст». Проще говоря, для многих эмигрантов русский «роднее» даже после переезда в «сияющий град на холме».

Хоккеист Александр Овечкин и президент США Дональд Трамп
Leah Millis/REUTERSАналогичный механизм сохранения языка используют и азиатские народы, чьи языки в США также в первой десятке по числу носителей – китайский, вьетнамский, тагальский (язык филиппинцев). Конкурентным преимуществом русского выступает большая этническая разнородность носителей: в Америке на нем говорят не только русские, но и выходцы с пространства бывшего СССР. Русский они используют как внутри своей этнической группы, так и общаясь с другими группами. Таким образом, в районах компактного проживания таких групп русский, а не английский служит одновременно языком межнационального общения и каналом связи с родными и друзьями в России и постсоветских странах. Справедливости ради, касается это в основном старшего поколения, а в используемом ими языке столько транслитерированных английских заимствований, что его справедливо называют «русглиш». У молодых свой тренд: так называемые Russian heritage citizens – американские граждане русского (в широком смысле) происхождения, которые родились и выросли в Америке, – по разным причинам, но все чаще хотят восстановить отношения с родственниками или друзьями, оставшимися на родине. Основной упор в их случае делается на развитие словарного запаса, который они осваивают относительно легко, хоть и не быстро.
Какую роль миграционный вопрос играет в политической жизни Америки
Казалось бы, чем больше носителей русского языка, тем выше потенциал «мягкой силы» России. Но и тут есть важное «но»: значительная, хоть и не поддающаяся точной оценке, часть эмигрантского сообщества не одобряет политический курс современной России. После начала СВО некоторые организации, как, например, Российско-американский культурный центр (The Russian American Cultural Center – RACC) или Музей русского искусства в Миннеаполисе, и вовсе выразили открытую поддержку Украине. Таким образом, распространение русского языка не всегда сопряжено с укреплением положительного имиджа России. Не помогают этому и некоторые популярные в эмигрантской среде издания, переполненные западными пропагандистскими штампами. Впрочем, у сотрудников таких изданий обычно крайне низкий уровень владения русским языком, а из каждого второго предложения «белыми нитками» торчат калькированные английские выражения. Так что безотносительно их политических предпочтений претендовать на роль инструментов продвижения «языка Пушкина» эти издания явно не могут.
В статистике поисковых запросов – еще один маркер распространенности языка в чужой стране – русский в Америке находится где-то посередине между китайским и украинским. В «сверхпопулярных запросах» американцы интересуются: «есть ли разница между русским и украинским?», «на каком же все-таки языке говорят на Украине?» и «стоит ли ещё учить русский в 2024-м?» Среди запросов, непосредственно связанных с изучением русского, чаще всего интересуются, насколько сложен этот язык в сравнении с другими и сколько времени понадобится на его освоение. В тематических интернет-пабликах, где американцы делятся своим опытом изучения русского, красной нитью проходит мысль: вне зависимости от характера политических отношений Москвы и Вашингтона русский язык имеет «непреходящую важность». Причин этого, по мнению американцев, две: «роль России как одного из ключевых игроков на международной арене» и ее «богатое культурное и историческое наследие».
Конституция США не закрепляет за каким-либо языком статус государственного или официального, позволяя каждому штату самостоятельно решать вопросы языковой политики. В марте 2025 года президент Дональд Трамп издал исполнительный указ (который следующий президент может легко отменить), согласно которому английский язык стал официальным языком Америки, но каких-либо изменений на общегосударственном уровне за этим не последовало. Таким образом, каждое сообщество само популяризирует свой язык как может: через диаспоры, неправительственные организации и активистов-волонтеров. В продвижении русского языка в последние годы выросло значение деятельности религиозных организаций, в первую очередь – под эгидой РПЦ (воскресные школы). Важную роль в деле популяризации русского среди детей и молодежи также играют различные конкурсы. В частности, ежегодная устная олимпиада по русскому среди учеников средних и старших классов, проводимая Американским советом преподавателей русского языка и литературы, и крупный международный конкурс юных чтецов «Живая классика», проходящий в четыре этапа: школьный (на уровне русскоязычных образовательных центров), региональный, национальный тур в Российском культурном центре в Вашингтоне и международный финал в онлайн-формате.
Отлично популяризирует Россию и русский язык спорт. Точнее, русские звезды тенниса и хоккея. Автор этих строк имел возможность наблюдать живой интерес к России, просыпающийся у американцев – подростков и взрослых, – которые хоть раз посетили тренировку или игру звезды хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина: «Если этот русский творит на льду такое, значит, в характере русских есть что-то особенное, интересно узнать про них побольше». Некоторые после такого даже покупают начальный онлайн-курс русского языка. Впрочем, хватает их ненадолго. В изучении русского, как и в спорте, требуется, как говорят американцы, «ментальная стойкость».
Максим Сучков – директор Института международных исследований МГИМО
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".