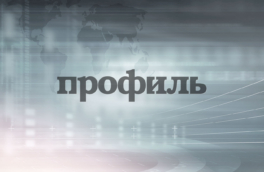На своей визитной карточке Вагрич Бахчанян пишет: «Художник слова». Когда-то он был звездой 16-й полосы «Литгазеты». Это ему принадлежит афоризм «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». В Америке, где он давно живет, его книжки только теперь начинают издавать микроскопическими тиражами. Вагрич Бахчанян, будучи большим любителем Велимира Хлебникова и Алексея Крученых, каждый раз придумывает новые слова: камбалалайка, орангутанго, демагоголь, гитаракан, собакалавр, блондинозавр — это все я переписал из его четырехстраничной книжки «Зверительная грамота, или Помесь гибрида с метисом», вошедшей в диптих «Зоопарк культуры и отдыха» и изданной в издательстве «Ужимка-пресс», Москва—Нью-Йорк, «во второй половине ХХ века». За границей он выпустил книжку «Стихи разных лет», которая составлена из хрестоматийных строчек Крылова, Некрасова, Пушкина, Маяковского, но под своей фамилией. «А что? — объяснял он. — Ведь каждый знает, что это написал не я! Это такой концепт». Так что поле его деятельности — вся русская поэзия. А теперь, с выходом книги «Вишневый ад», собранной из перемешанных и взболтанных чеховских пьес, — и вся русская драматургия. Он — «библиофилин».
Его первая за 30 лет книга в России вышла год назад в екатеринбургском издательстве «У-фактория» под названием «Мух уйма». В предисловии к ней рассказано о «Трофейной выставке достижений народного хозяйства СССР», которую Бахчанян устроил в журнале «Новый американец». На ней были представлены придуманные Бахчаняном призывы-лозунги, каламбуры-парадоксы: «Вся власть — сонетам!», «Бей баклуши — спасай Россию», «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи!» Бахчанян считает удачный каламбур «высказыванием самого языка». Сизифу он приписывает слова «Кончил дело — гуляй смело», Венере Милосской — «Мойте руки перед едой», Вильгельму Теллю — «Не стой под стрелой», барону Мюнхгаузену — «Правда глаза колет». Дальтону — «Все стало вокруг голубым и коричневым», Герострату — «Всем лучшим во мне я обязан книгам».
В его нью-йоркскую квартиру иду мимо Централ-парка, где Бахчанян обычно ловит карасей, и знаменитого музея «Метрополитен» — здесь удачно размещено «сырье» для бахчаняновского творчества. Художник встретил меня на лестничной площадке и проводил в квартирку на двух уровнях, соединенных винтовой лестницей. Квартира небольшая: наверху гостиная, в подвале спальня — она же библиотека, — зеркалом продолженная в бесконечность.
— Я человек косноязычный. Предложения строил слишком свободно.
— Это вы от косноязычия подались в формалисты?
— Наверное. Косноязычие близко к авангардизму. Все изобретения делаются или от незнания, или от неумения что-либо сделать правильно. Известно, например, что промокательную бумагу изобрели случайно, до нее пользовались песком. Человек, который делал обычную писчую бумагу, неправильно замесил состав, и бумага вышла бракованная. Ее уже хотели выбросить — и тут кто-то пролил на нее жидкость, а бумага ее мигом впитала. Эйнштейн говорил: знающий человек знает, что это можно, а это нельзя, но приходит человек невежественный, ничего этого не знающий, — и делает открытие. Из языка Акакия Акакиевича можно вывести всю абсурдистскую литературу, разве нет? А Лебядкин — чистый авангард.
— А вы как изобрели вашу «промокашку»?
— Не знаю. Начиналось все в разговорном жанре. Я любил много болтать — и в армии, и до армии.
— Вообще-то это не одобрялось…
— Не одобрялось. И я часто попадал на гауптвахту. Из-за искусства. Однажды очень сурово подзалетел на 15 суток строгого ареста, потому что в Киеве ушел в самоволку на выставку Серова. Меня только что призвали, и я не имел права на увольнение. Потому ушел в самоволку. Выставку посмотрел, а на обратном пути меня поймали. И я сидел в бывшей Киевской тюрьме, которую потом переоборудовали под гауптвахту, — в той самой камере, где сидел Котовский. По этому поводу я сейчас процитирую самого себя: искусство принадлежит народу и требует жертв.
— Ваши фразы пошли в народ. Расскажите, как вы «Кафку сделали былью»...
— На эту фразу накопилось уже много авторов. Ее и Арканов, например, повторял. А родилась она довольно давно, еще в Харькове, при Хрущеве, когда у нас впервые вышел Кафка. У меня есть свидетели: Лимонов и Милославский — это была одна компания. Кто-то пришел с Кафкой и говорит: Кафку купил! Я тут же выпалил: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Это было году в 64-м.
— А записывать все это вы стали сразу?
— Нет, конечно. Многие шутки было даже опасно записывать. Скажем, «Подземный переход от социализма к коммунизму» распространялся только устно. Или «Маозолей». Или «Дурная слава КПСС». К столетию Ленина я придумал переименовать город Владимир в город Владимир Ильич. Это тоже пошло в народ, а теперь кто-то предложил переименовать его во Владимир Вольфович. То есть шутки переходят в анекдоты. В Израиле была издана какая-то книга — я ее даже не видел, а только читал на нее рецензию — так вот: в этой рецензии в качестве цитат из книги приведены три мои шутки! Например, «В Одессе открылся тир имени Фанни Каплан».
— Вам за эти шутки доставалось?
— Помните «Клуб 12 стульев» в «Литературной газете»? Я там работал с 67-го по 74-й. В огромной комнате собиралось много и художников, и юмористов, и хохмачей. И обязательно шел треп. Судя по всему, запись прямо из этой комнаты шла куда надо. Я по этому поводу как-то сказал: радоваться надо! Мы просто болтаем, а там записывают, значит, сохранят для вечности. Я думаю, где-то в соответствующих архивах теперь можно найти очень много интересного. Туда и Горин приходил, и Арканов, и Брайнин, вся антисоветчина там собиралась.
— Послушайте, формалист — не профессия, по крайней мере в Советском Союзе. Чему-то вы учились?
— Я ничему не учился. Я школу не окончил. У меня еще паспорта не было, когда мой папаша загремел за решетку и я пошел работать. Взяли условно. В Харькове.
— А какой ваш родной язык?
— Русский. В Армении я даже никогда не был. Предки бежали из Турции. И сразу в Харьков. Там собралась большая колония бежавших. Мне попалась книга мемуаров Сарьяна, в ней он описывает путешествие по Кавказу. В Турции он остановился в городе Харков. Значит, в этом турецком Харкове должны были быть армянские поселения. И есть что-то общее между этим Харковом и Харьковом.
— В 74-м вы уехали на Запад, хотя ваше словотворчество строится на русском языке. Как вы существуете здесь?
— Я же с Россией не порываю. Я даже английский толком не выучил. Когда мы сюда приехали, нам помогли снять вот эту квартиру. И человек, который помогал, был из второй волны эмиграции. Когда я его послушал, то просто испугался: он мне рассказывал про Баку, где бегали безобразники. Какие безобразники?! Оказалось, он имел в виду: «беспризорники». Он уже слова стал забывать! И я, честно говоря, подумал, что если научусь говорить по-английски, мой русский станет вот таким же. Но жена у меня с хорошим английским, так что ее знаний хватает на двоих. А потом, здесь собирается много русских компаний…
— И все-таки, как же творчество?
— В России, конечно, было больше стимулов. Там был тот самый бульон, в котором все варится. Здесь этого нет. Воздуха нет, атмосфера не та. На 16-й странице «Литгазеты» собирался цвет нашей юмористической литературы. Это было как соревнование акынов. Здесь соревноваться практически не с кем.
— А как русскому литератору прожить в Нью-Йорке?
— Это отдельная история. Я ведь еще и художник — зарабатываю оформительской работой, делаю обложки книг. И русских, и нерусских. Потом мы с Генисом издавали журнал «Семь дней», я там тоже был художником. Появился «Новый американец» Довлатова — я делал обложки для него.
— Не поделитесь какими-нибудь новыми открытиями, которых в России еще не знают? Чем-то таким, чем вы гордитесь.
— …Авангардитесь! Так трудно с налету… Ну вот, например. «Мертворожденный ползать летать не может». «Как повяжешь галстук — береги его, он ведь с красной рыбой цвета одного» — это, впрочем, штука старая, еще по Москве ходила. «Бумажник — оружие пролетариата». «От великого до смешного — один шаг вперед, два шага назад». «Язык мой — враг мой руки перед едой». «Дышите на ладан как можно глубже». «Лучше умереть стоя, чем жить с кем-нибудь на коленях». «Я волком бы выгрыз только за то, что с ним разговаривал Ленин». Эту шутку мой приятель Лимонов показывал Лиле Брик, и она сказала: «Если бы Володя Маяковский был жив, ему бы понравилось». Или вот: «Бей баклуши — спасай Россию!» «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи» — это мой ответ Солженицыну.
— У вас к Солженицыну какой-то счет?
— Я с самого начала чувствовал в нем какую-то фальшь…
— После екатеринбургской «Мух уйма» у вас вышла новая книжка, уже в Москве...
— Да, «Вишневый ад». Вышла в серии «Лауреаты премии «Либерти». Это мои пьесы. Самая первая пьеса, «Лондон и Вашингтон», родилась как раз на 16-й странице «Литгазеты». Там была анкета для художников и в ней вопрос: ваше хобби? Я написал: хобби — сочинять пьесы. Пришлось соответствовать. Книжка продается в Москве, вот только московские тиражи меня теперь очень удивляют: тысяча экземпляров!
— А мы уже не самая читающая страна в мире. Эти ваши пьесы, как я понимаю, не рассчитаны на то, чтобы их ставили?
— Нет. Это просто такой литературный жанр: пьеса. Мне неинтересно делать так, как другие, понимаете? Не то чтобы у меня такая задача — просто иначе не выходит.
— А можно спросить просто и вульгарно? Ваши сочинения — это что, желание постоянного выпендрежа? Или все же зов души?
— Никакого выпендрежа. Потребность такая. Вообще-то я об этом никогда не думал… Ну ладно, в Москве, допустим, выпендреж мог быть. Мы, как павлины, распускали хвосты, соревновались. Борьба шла по Дарвину. Но здесь-то зачем? Я здесь тридцать лет, а книжка вышла совсем недавно. Я имею в виду вот эту, которая издана в Екатеринбурге. В ней большинство шуток написано уже в эмиграции. И пьесы эти для книги «Вишневый ад» здесь написаны, в Нью-Йорке. Чехов писал театр абсурда, так? И вот я решил из него самого сделать театр абсурда. Взял несколько его пьес и перемешал реплики в произвольном порядке. И когда реплики Тригорина или Раневской звучат совершенно в другом контексте, получается театр абсурда.
— Коллаж — это ваш универсальный метод?
— То, что я вам читал, — это литературные коллажи. Я могу взять тему и написать, допустим, роман — но все равно получится коллаж какой-нибудь. А премию «Либерти» я получил как художник. Я же еще и концептуалист.
— Кстати, термин «концептуализм» толкуют по-разному. Вы, как отец русского концептуализма, можете уточнить его значение?
— Это, конечно, условный термин, потому что концепт был и у Леонардо да Винчи. Что такое концепт — идея! Но идея, смысл в искусстве были всегда. А нынешнее концептуальное искусство возникло как протест против коммерциализации культуры. Чтобы искусством было нельзя торговать, художники перестали писать картины маслом — стали делать рисунки, фотографии, все, на чем нельзя наварить денег. Но рынок берет свое: начали покупать и рисунки, и фотографии, все, связанное с известным именем. И очень дорого стали покупать. Так что протест ни к чему не привел… Вот видите картинку? (Подводит к подобию комода, где к стенке прислонено нечто.) Акция заключается в том, что я каждый день выставляю здесь новую работу. Это может быть просто бумажка. Или абстракция. Это продолжается с 28 июля 1993 года. Каждый день! Представляете, сколько накопилось работ? А еще я иллюстрирую все телефонные разговоры. С 1991 года. Сегодняшний телефонный разговор с вами я тоже проиллюстрировал, вот, смотрите. Видите: В. Кичин. (Показывает пухлый блокнот, каждая страница испещрена штрихами, сделанными акварельными красками. Наш разговор почему-то напоминает шахматную доску. Или небо в клеточку.)
— Что это — отражение ваших чувств в момент разговора?
— Видите, вот ванночка с красками. Я макаю кисточку, разговариваю и рисую.
— А можно это как-то расшифровать?
— Нет. Иногда это чистая абстракция, иногда какие-то лица.
— И так каждый звонок?
— Семьдесят девятый том!
— Надо издавать.
— Еще я выставляюсь. В Третьяковке, в Русском музее выставлялся. Недавно была выставка в Центре современного искусства на Зоологической…
— Когда последний раз были в России?
— Два года назад. А до этого я не был 29 лет.
— А когда снова приедете?
— Я приезжаю каждые 29 лет. Осталось 27.
— На выставке «Россия!» в Музее Гуггенхайма были?
— Был. И могу присоединиться к словам Олега Кулика, которое он сказал в каком-то интервью: «ВДНХ на выезде». К сожалению, это так. Конечно, шедевров там много, но сама выставка — это ВДНХ. Особенно в той части, что касается современного искусства. Там очень чувствуются какие-то интриги: кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то не включил в число участников… Нет Олега Целкова, нет Шемякина, Краснопевцева — людей, которые в самое тяжелое время оставались в своем творчестве свободными.
— Скажите, как и почему вы отважились уехать из СССР?
— Когда я объясняю, мне не верят: нам просто было негде жить. А КГБ я не боялся — трепался везде и обо всем. Когда вышеупомянутый Лимонов женился, его вызвали на Лубянку и предложили сотрудничать. А если он откажется, его вышлют в Харьков. Мы с ним тогда снимали комнату на Пушкинской, напротив прокуратуры. И вот он пришел с Лубянки очень возбужденный, с нездоровым таким румянцем на лице. Говорит: «Знаешь, Вагрич, какой мне первый вопрос задали? Это почему же ваш друг Бахчанян так не любит советскую власть?!» А положение мое тогда было сложное: я был реально женат, но оформил еще и фиктивный брак — чтобы прописаться в Москве. От фиктивной жены пришла пора выписываться, а прописаться было уже некуда. Купить квартиру я не мог: однокомнатные квартиры были страшным дефицитом, да и с деньгами было херовато. Бред собачий! И мы уехали. Я не еврей, и жена Ира — русская, но я хорошо знал одного человека из еврейской эмиграции, и он нам помог перебраться в Израиль. Ирочка моя сочинила про нас такую замечательную легенду, что, когда мой друг ее прочитал, у него слезы на глаза навернулись: «Это все правда?!!» Ну вот, а потом перебрались в Нью-Йорк.
— И как вам показался Нью-Йорк?
— Нью-Йорк, конечно, тема важная. Я ведь здесь живу дольше, чем где бы то ни было.
— Он стал вашим домом?
— Нет. Я, честно говоря, о Париже мечтал. Но не получилось. А здесь — куда? На Луну? В Харькове я мечтал о Москве, в Москве — о Западе. А теперь перспектива закрылась, понимаете? Когда уезжаю из Нью-Йорка — начинаю по нему скучать, но жить здесь, особенно летом, в жару, немыслимо. 33 градуса при стопроцентной влажности! Я просто не мог на улицу выходить. На пенсию не имею права — я ее не заработал. Здесь тоже законы суровые…
— В Москве у вас был интересный круг общения. Здесь он сложился?
— В первый год эмиграции какая-то активная жизнь еще была, а потом она стала угасать. Многие разъехались, кто-то умер… Осталось не так чтобы очень много. По моим телефонным иллюстрациям можно посмотреть, какие у меня люди остались. У меня сейчас в Москве больше друзей и знакомых, чем здесь…
— Это правда, что Лимонова из Савенко сделали вы?
— Правда. Году в 63-м. Мы как-то сидели в Харькове, выпивали. Эдик как раз написал очень хорошие стихи. Я прочитал и сказал: знаешь, фамилия Савенко и великий русский поэт — как-то не вяжется. Он задумался: «Да? А что же делать?» А он был тогда очень худой, бледный — желтый. Я и предложил ему стать Лимоновым. Так это к нему и приросло. Но теперь у меня, как у автора этого псевдонима, возникла идея его забрать. Я давал этот псевдоним поэту Лимонову, а он стал политиком. То, что он делает в политике, мне не нравится. Я уверен, он зря в это влез. Сумасшедший художник, поэт, композитор — это нормально. Но сумасшедший политик — это страшная вещь!
Архивная публикация 2005 года: "«Кремль-брюле!»"
На своей визитной карточке Вагрич Бахчанян пишет: «Художник слова». Когда-то он был звездой 16-й полосы «Литгазеты». Это ему принадлежит афоризм «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». В Америке, где он давно живет, его книжки только теперь начинают издавать микроскопическими тиражами. Вагрич Бахчанян, будучи большим любителем Велимира Хлебникова и Алексея Крученых, каждый раз придумывает новые слова: камбалалайка, орангутанго, демагоголь, гитаракан, собакалавр, блондинозавр — это все я переписал из его четырехстраничной книжки «Зверительная грамота, или Помесь гибрида с метисом», вошедшей в диптих «Зоопарк культуры и отдыха» и изданной в издательстве «Ужимка-пресс», Москва—Нью-Йорк, «во второй половине ХХ века». За границей он выпустил книжку «Стихи разных лет», которая составлена из хрестоматийных строчек Крылова, Некрасова, Пушкина, Маяковского, но под своей фамилией. «А что? — объяснял он. — Ведь каждый знает, что это написал не я! Это такой концепт». Так что поле его деятельности — вся русская поэзия. А теперь, с выходом книги «Вишневый ад», собранной из перемешанных и взболтанных чеховских пьес, — и вся русская драматургия. Он — «библиофилин».
Его первая за 30 лет книга в России вышла год назад в екатеринбургском издательстве «У-фактория» под названием «Мух уйма». В предисловии к ней рассказано о «Трофейной выставке достижений народного хозяйства СССР», которую Бахчанян устроил в журнале «Новый американец». На ней были представлены придуманные Бахчаняном призывы-лозунги, каламбуры-парадоксы: «Вся власть — сонетам!», «Бей баклуши — спасай Россию», «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи!» Бахчанян считает удачный каламбур «высказыванием самого языка». Сизифу он приписывает слова «Кончил дело — гуляй смело», Венере Милосской — «Мойте руки перед едой», Вильгельму Теллю — «Не стой под стрелой», барону Мюнхгаузену — «Правда глаза колет». Дальтону — «Все стало вокруг голубым и коричневым», Герострату — «Всем лучшим во мне я обязан книгам».
В его нью-йоркскую квартиру иду мимо Централ-парка, где Бахчанян обычно ловит карасей, и знаменитого музея «Метрополитен» — здесь удачно размещено «сырье» для бахчаняновского творчества. Художник встретил меня на лестничной площадке и проводил в квартирку на двух уровнях, соединенных винтовой лестницей. Квартира небольшая: наверху гостиная, в подвале спальня — она же библиотека, — зеркалом продолженная в бесконечность.
— Я человек косноязычный. Предложения строил слишком свободно.
— Это вы от косноязычия подались в формалисты?
— Наверное. Косноязычие близко к авангардизму. Все изобретения делаются или от незнания, или от неумения что-либо сделать правильно. Известно, например, что промокательную бумагу изобрели случайно, до нее пользовались песком. Человек, который делал обычную писчую бумагу, неправильно замесил состав, и бумага вышла бракованная. Ее уже хотели выбросить — и тут кто-то пролил на нее жидкость, а бумага ее мигом впитала. Эйнштейн говорил: знающий человек знает, что это можно, а это нельзя, но приходит человек невежественный, ничего этого не знающий, — и делает открытие. Из языка Акакия Акакиевича можно вывести всю абсурдистскую литературу, разве нет? А Лебядкин — чистый авангард.
— А вы как изобрели вашу «промокашку»?
— Не знаю. Начиналось все в разговорном жанре. Я любил много болтать — и в армии, и до армии.
— Вообще-то это не одобрялось…
— Не одобрялось. И я часто попадал на гауптвахту. Из-за искусства. Однажды очень сурово подзалетел на 15 суток строгого ареста, потому что в Киеве ушел в самоволку на выставку Серова. Меня только что призвали, и я не имел права на увольнение. Потому ушел в самоволку. Выставку посмотрел, а на обратном пути меня поймали. И я сидел в бывшей Киевской тюрьме, которую потом переоборудовали под гауптвахту, — в той самой камере, где сидел Котовский. По этому поводу я сейчас процитирую самого себя: искусство принадлежит народу и требует жертв.
— Ваши фразы пошли в народ. Расскажите, как вы «Кафку сделали былью»...
— На эту фразу накопилось уже много авторов. Ее и Арканов, например, повторял. А родилась она довольно давно, еще в Харькове, при Хрущеве, когда у нас впервые вышел Кафка. У меня есть свидетели: Лимонов и Милославский — это была одна компания. Кто-то пришел с Кафкой и говорит: Кафку купил! Я тут же выпалил: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Это было году в 64-м.
— А записывать все это вы стали сразу?
— Нет, конечно. Многие шутки было даже опасно записывать. Скажем, «Подземный переход от социализма к коммунизму» распространялся только устно. Или «Маозолей». Или «Дурная слава КПСС». К столетию Ленина я придумал переименовать город Владимир в город Владимир Ильич. Это тоже пошло в народ, а теперь кто-то предложил переименовать его во Владимир Вольфович. То есть шутки переходят в анекдоты. В Израиле была издана какая-то книга — я ее даже не видел, а только читал на нее рецензию — так вот: в этой рецензии в качестве цитат из книги приведены три мои шутки! Например, «В Одессе открылся тир имени Фанни Каплан».
— Вам за эти шутки доставалось?
— Помните «Клуб 12 стульев» в «Литературной газете»? Я там работал с 67-го по 74-й. В огромной комнате собиралось много и художников, и юмористов, и хохмачей. И обязательно шел треп. Судя по всему, запись прямо из этой комнаты шла куда надо. Я по этому поводу как-то сказал: радоваться надо! Мы просто болтаем, а там записывают, значит, сохранят для вечности. Я думаю, где-то в соответствующих архивах теперь можно найти очень много интересного. Туда и Горин приходил, и Арканов, и Брайнин, вся антисоветчина там собиралась.
— Послушайте, формалист — не профессия, по крайней мере в Советском Союзе. Чему-то вы учились?
— Я ничему не учился. Я школу не окончил. У меня еще паспорта не было, когда мой папаша загремел за решетку и я пошел работать. Взяли условно. В Харькове.
— А какой ваш родной язык?
— Русский. В Армении я даже никогда не был. Предки бежали из Турции. И сразу в Харьков. Там собралась большая колония бежавших. Мне попалась книга мемуаров Сарьяна, в ней он описывает путешествие по Кавказу. В Турции он остановился в городе Харков. Значит, в этом турецком Харкове должны были быть армянские поселения. И есть что-то общее между этим Харковом и Харьковом.
— В 74-м вы уехали на Запад, хотя ваше словотворчество строится на русском языке. Как вы существуете здесь?
— Я же с Россией не порываю. Я даже английский толком не выучил. Когда мы сюда приехали, нам помогли снять вот эту квартиру. И человек, который помогал, был из второй волны эмиграции. Когда я его послушал, то просто испугался: он мне рассказывал про Баку, где бегали безобразники. Какие безобразники?! Оказалось, он имел в виду: «беспризорники». Он уже слова стал забывать! И я, честно говоря, подумал, что если научусь говорить по-английски, мой русский станет вот таким же. Но жена у меня с хорошим английским, так что ее знаний хватает на двоих. А потом, здесь собирается много русских компаний…
— И все-таки, как же творчество?
— В России, конечно, было больше стимулов. Там был тот самый бульон, в котором все варится. Здесь этого нет. Воздуха нет, атмосфера не та. На 16-й странице «Литгазеты» собирался цвет нашей юмористической литературы. Это было как соревнование акынов. Здесь соревноваться практически не с кем.
— А как русскому литератору прожить в Нью-Йорке?
— Это отдельная история. Я ведь еще и художник — зарабатываю оформительской работой, делаю обложки книг. И русских, и нерусских. Потом мы с Генисом издавали журнал «Семь дней», я там тоже был художником. Появился «Новый американец» Довлатова — я делал обложки для него.
— Не поделитесь какими-нибудь новыми открытиями, которых в России еще не знают? Чем-то таким, чем вы гордитесь.
— …Авангардитесь! Так трудно с налету… Ну вот, например. «Мертворожденный ползать летать не может». «Как повяжешь галстук — береги его, он ведь с красной рыбой цвета одного» — это, впрочем, штука старая, еще по Москве ходила. «Бумажник — оружие пролетариата». «От великого до смешного — один шаг вперед, два шага назад». «Язык мой — враг мой руки перед едой». «Дышите на ладан как можно глубже». «Лучше умереть стоя, чем жить с кем-нибудь на коленях». «Я волком бы выгрыз только за то, что с ним разговаривал Ленин». Эту шутку мой приятель Лимонов показывал Лиле Брик, и она сказала: «Если бы Володя Маяковский был жив, ему бы понравилось». Или вот: «Бей баклуши — спасай Россию!» «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи» — это мой ответ Солженицыну.
— У вас к Солженицыну какой-то счет?
— Я с самого начала чувствовал в нем какую-то фальшь…
— После екатеринбургской «Мух уйма» у вас вышла новая книжка, уже в Москве...
— Да, «Вишневый ад». Вышла в серии «Лауреаты премии «Либерти». Это мои пьесы. Самая первая пьеса, «Лондон и Вашингтон», родилась как раз на 16-й странице «Литгазеты». Там была анкета для художников и в ней вопрос: ваше хобби? Я написал: хобби — сочинять пьесы. Пришлось соответствовать. Книжка продается в Москве, вот только московские тиражи меня теперь очень удивляют: тысяча экземпляров!
— А мы уже не самая читающая страна в мире. Эти ваши пьесы, как я понимаю, не рассчитаны на то, чтобы их ставили?
— Нет. Это просто такой литературный жанр: пьеса. Мне неинтересно делать так, как другие, понимаете? Не то чтобы у меня такая задача — просто иначе не выходит.
— А можно спросить просто и вульгарно? Ваши сочинения — это что, желание постоянного выпендрежа? Или все же зов души?
— Никакого выпендрежа. Потребность такая. Вообще-то я об этом никогда не думал… Ну ладно, в Москве, допустим, выпендреж мог быть. Мы, как павлины, распускали хвосты, соревновались. Борьба шла по Дарвину. Но здесь-то зачем? Я здесь тридцать лет, а книжка вышла совсем недавно. Я имею в виду вот эту, которая издана в Екатеринбурге. В ней большинство шуток написано уже в эмиграции. И пьесы эти для книги «Вишневый ад» здесь написаны, в Нью-Йорке. Чехов писал театр абсурда, так? И вот я решил из него самого сделать театр абсурда. Взял несколько его пьес и перемешал реплики в произвольном порядке. И когда реплики Тригорина или Раневской звучат совершенно в другом контексте, получается театр абсурда.
— Коллаж — это ваш универсальный метод?
— То, что я вам читал, — это литературные коллажи. Я могу взять тему и написать, допустим, роман — но все равно получится коллаж какой-нибудь. А премию «Либерти» я получил как художник. Я же еще и концептуалист.
— Кстати, термин «концептуализм» толкуют по-разному. Вы, как отец русского концептуализма, можете уточнить его значение?
— Это, конечно, условный термин, потому что концепт был и у Леонардо да Винчи. Что такое концепт — идея! Но идея, смысл в искусстве были всегда. А нынешнее концептуальное искусство возникло как протест против коммерциализации культуры. Чтобы искусством было нельзя торговать, художники перестали писать картины маслом — стали делать рисунки, фотографии, все, на чем нельзя наварить денег. Но рынок берет свое: начали покупать и рисунки, и фотографии, все, связанное с известным именем. И очень дорого стали покупать. Так что протест ни к чему не привел… Вот видите картинку? (Подводит к подобию комода, где к стенке прислонено нечто.) Акция заключается в том, что я каждый день выставляю здесь новую работу. Это может быть просто бумажка. Или абстракция. Это продолжается с 28 июля 1993 года. Каждый день! Представляете, сколько накопилось работ? А еще я иллюстрирую все телефонные разговоры. С 1991 года. Сегодняшний телефонный разговор с вами я тоже проиллюстрировал, вот, смотрите. Видите: В. Кичин. (Показывает пухлый блокнот, каждая страница испещрена штрихами, сделанными акварельными красками. Наш разговор почему-то напоминает шахматную доску. Или небо в клеточку.)
— Что это — отражение ваших чувств в момент разговора?
— Видите, вот ванночка с красками. Я макаю кисточку, разговариваю и рисую.
— А можно это как-то расшифровать?
— Нет. Иногда это чистая абстракция, иногда какие-то лица.
— И так каждый звонок?
— Семьдесят девятый том!
— Надо издавать.
— Еще я выставляюсь. В Третьяковке, в Русском музее выставлялся. Недавно была выставка в Центре современного искусства на Зоологической…
— Когда последний раз были в России?
— Два года назад. А до этого я не был 29 лет.
— А когда снова приедете?
— Я приезжаю каждые 29 лет. Осталось 27.
— На выставке «Россия!» в Музее Гуггенхайма были?
— Был. И могу присоединиться к словам Олега Кулика, которое он сказал в каком-то интервью: «ВДНХ на выезде». К сожалению, это так. Конечно, шедевров там много, но сама выставка — это ВДНХ. Особенно в той части, что касается современного искусства. Там очень чувствуются какие-то интриги: кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то не включил в число участников… Нет Олега Целкова, нет Шемякина, Краснопевцева — людей, которые в самое тяжелое время оставались в своем творчестве свободными.
— Скажите, как и почему вы отважились уехать из СССР?
— Когда я объясняю, мне не верят: нам просто было негде жить. А КГБ я не боялся — трепался везде и обо всем. Когда вышеупомянутый Лимонов женился, его вызвали на Лубянку и предложили сотрудничать. А если он откажется, его вышлют в Харьков. Мы с ним тогда снимали комнату на Пушкинской, напротив прокуратуры. И вот он пришел с Лубянки очень возбужденный, с нездоровым таким румянцем на лице. Говорит: «Знаешь, Вагрич, какой мне первый вопрос задали? Это почему же ваш друг Бахчанян так не любит советскую власть?!» А положение мое тогда было сложное: я был реально женат, но оформил еще и фиктивный брак — чтобы прописаться в Москве. От фиктивной жены пришла пора выписываться, а прописаться было уже некуда. Купить квартиру я не мог: однокомнатные квартиры были страшным дефицитом, да и с деньгами было херовато. Бред собачий! И мы уехали. Я не еврей, и жена Ира — русская, но я хорошо знал одного человека из еврейской эмиграции, и он нам помог перебраться в Израиль. Ирочка моя сочинила про нас такую замечательную легенду, что, когда мой друг ее прочитал, у него слезы на глаза навернулись: «Это все правда?!!» Ну вот, а потом перебрались в Нью-Йорк.
— И как вам показался Нью-Йорк?
— Нью-Йорк, конечно, тема важная. Я ведь здесь живу дольше, чем где бы то ни было.
— Он стал вашим домом?
— Нет. Я, честно говоря, о Париже мечтал. Но не получилось. А здесь — куда? На Луну? В Харькове я мечтал о Москве, в Москве — о Западе. А теперь перспектива закрылась, понимаете? Когда уезжаю из Нью-Йорка — начинаю по нему скучать, но жить здесь, особенно летом, в жару, немыслимо. 33 градуса при стопроцентной влажности! Я просто не мог на улицу выходить. На пенсию не имею права — я ее не заработал. Здесь тоже законы суровые…
— В Москве у вас был интересный круг общения. Здесь он сложился?
— В первый год эмиграции какая-то активная жизнь еще была, а потом она стала угасать. Многие разъехались, кто-то умер… Осталось не так чтобы очень много. По моим телефонным иллюстрациям можно посмотреть, какие у меня люди остались. У меня сейчас в Москве больше друзей и знакомых, чем здесь…
— Это правда, что Лимонова из Савенко сделали вы?
— Правда. Году в 63-м. Мы как-то сидели в Харькове, выпивали. Эдик как раз написал очень хорошие стихи. Я прочитал и сказал: знаешь, фамилия Савенко и великий русский поэт — как-то не вяжется. Он задумался: «Да? А что же делать?» А он был тогда очень худой, бледный — желтый. Я и предложил ему стать Лимоновым. Так это к нему и приросло. Но теперь у меня, как у автора этого псевдонима, возникла идея его забрать. Я давал этот псевдоним поэту Лимонову, а он стал политиком. То, что он делает в политике, мне не нравится. Я уверен, он зря в это влез. Сумасшедший художник, поэт, композитор — это нормально. Но сумасшедший политик — это страшная вещь!
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".