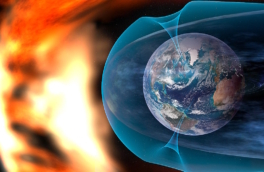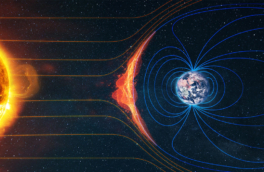- Главная страница
- Статьи
- Солдаты слова: знаменитые писатели, бывшие военкорами Великой Отечественной войны
Солдаты слова: знаменитые писатели, бывшие военкорами Великой Отечественной войны
«Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города», – поется в «Песне военных корреспондентов», она же «Корреспондентская застольная», сочиненной Константином Симоновым в 1943 году. Сотни советских писателей служили в Великую Отечественную военкорами. Среди них были как уже состоявшиеся авторы – Эренбург, Гайдар, Платонов, так и молодые люди, чьи таланты раскрылись именно в трагическое военное время, – Твардовский, Симонов, Гроссман. Нередко даже тех, кто рвался в бой, оставляли корреспондентом при газете. Эта работа считалась не менее важной, чем солдатская, ведь военкоры не только регулярно писали о происходящем на фронте, но и воодушевляли своими статьями советских воинов. Да и возможности попасть в самый жаркий бой у военных журналистов всегда хватало.

Судьба писателя
К началу войны Аркадий Гайдар был популярным советским писателем, получившим за свои труды орден «Знак Почета». Ему было 37, и все главные произведения его жизни были уже написаны – от «Военной тайны», «Голубой чашки» и «Судьбы барабанщика» до «Тимура и его команды». Весной 1941-го Гайдар закончил свою последнюю крупную вещь, сценарий «Клятва Тимура», – фильм вышел уже после гибели писателя.
Узнав о нападении немцев, Гайдар начал собираться на фронт, но попасть туда для него было не так просто: медкомиссия признала его негодным к строевой службе. Голиков (настоящая фамилия писателя) воевал с 14 лет, с самого начала Гражданской войны; в 16 он уже командовал ротой, а затем и полком, но в 20 его уволили из Красной армии по болезни, с диагнозом «травматический невроз» как следствие контузии и других ранений.
Болезнь была тяжелой: молодой ветеран страдал приступами агрессии, пил, резал себя бритвой. Всё это было известно военному руководству, поэтому Гайдар, получив отказ, пошел обходным путем. Через месяц после нападения Германии на Советский Союз писатель оказался в войсках Юго-Западного фронта в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Так в последний год жизни Гайдара соединились две главные его стихии – война и литература. У него был не только литературный, но и журналистский опыт: до того как начать писать прозу, Гайдар в середине 1920-х работал в нескольких газетах.
Летом и осенью 1941-го он успел опубликовать несколько фронтовых очерков – «У переправы», «Мост», «Ракеты и гранаты», – но Гайдару хотелось непосредственного участия в боях. Он был прирожденным командиром, и такому человеку трудно было смотреть на происходящее глазами корреспондента, а не воина. Он находился в Киеве, когда к городу подступили немецкие войска, и отказался эвакуироваться вместе с другими писателями. Возможности войти в число избранных спасенных он предпочел остаться с окруженной армией и жителями города. Возможно, он понял, что это его шанс попасть в гущу войны. Когда вскоре Киев был захвачен, Гайдару с несколькими бойцами удалось выйти из окружения и присоединиться к партизанскому отряду. Но 26 октября его отряд попал в засаду. Писатель успел предупредить товарищей, и они спаслись, а сам был убит пулеметной очередью.
«Жив ты или помер»
25-летний Константин Симонов к началу войны был в статусе молодого, подающего надежды поэта и драматурга. Ему удалось избежать преследований из-за дворянского происхождения, хотя его мать, княжна Александра Оболенская, провела в ссылке 20 лет.

Алексей Сурков, Константин Симонов, Евгений Кригер. Западный фронт, июль 1941
UBL/Vostock PhotoНезадолго до войны Театр имени Ленинского комсомола поставил две пьесы Симонова – «История одной любви» и «Парень из нашего города».
Сложно сказать, каким был бы его путь, если бы не Великая Отечественная – ведь именно она стала временем расцвета его таланта. Почти не покидая фронта и регулярно попадая в рискованные ситуации, Симонов не только занимался боевой корреспонденцией, но и в большом количестве писал очерки, стихи, пьесы, повести, вел дневник. Выражение «когда говорят пушки, музы молчат» явно не относилось к нему. Симонов был очень плодовит, но для многих он стал известен прежде всего стихотворением «Жди меня», написанным в первые месяцы войны.
Еще в 1939 году Кириллу (так на самом деле звали будущего лауреата шести Сталинских премий – он изменил имя, поскольку картавил и не мог его нормально произносить) довелось работать военкором во время сражений на Халхин-Голе. Поэтому уже в первые дни Великой Отечественной он отправился на фронт корреспондентом «Известий», а через месяц был переведен в «Красную звезду», главную военную газету страны.
Спарринг, который всегда с тобой: 125 лет со дня рождения Хемингуэя
Симонов вдохновлялся примером Эрнеста Хемингуэя – на войне он не избегал опасностей, а, наоборот, как бы специально искал их, доказывая свою мужественность. Так, среди защитников Сталинграда человек, пересекший Волгу под непрерывным огнем немцев, считался настоящим героем. Симонов проделал это несколько раз.
Лучшей похвалой своей работе он считал то, что бойцы Красной армии вырезали его статьи, прежде чем пустить газету на самокрутки.
Молодой Симонов выглядел эталоном военкора: деятельный, смелый, амбициозный. Неудивительно, что именно он сочинил процитированную выше «Корреспондентскую застольную», которую положил на музыку Матвей Блантер. Она стала известна в исполнении Леонида Утесова, правда, дошла до публики в изрядно обрезанном цензурой виде. «Без 100 грамм, товарищ, песню не заваришь» заменили на «без глотка», «репортер погибнет – не беда» на «но мы не терялись никогда», а некоторые куски и вовсе вырезали, например: «Жив ты или помер – главное, чтоб в номер материал успел ты передать».
В 1944-м Симонов напечатал свою первую повесть «Дни и ночи» о событиях Сталинградской битвы, и в том же году она была экранизирована. А после войны поэт-военкор стал одним из крупнейших советских писателей. Тема войны была для него центральной, и главным военным произведением Симонова стала трилогия «Живые и мертвые» (1959–1971).
Друг Пикассо
Однажды Симонов вместо заметки отправил в «Красную звезду» стихотворение, но главный редактор не возмутился вольности корреспондента, а понял, что тот сделал даже больше, чем от него ждали. Это было стихотворение «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом»), сочиненное в те тяжелые дни, когда немцы теснили Красную армию, приближаясь к Волге. Стихотворение оказало большой воодушевляющий эффект – поэт-фронтовик Михаил Львов говорил: «Я бы присвоил этому стихотворению звание Героя Советского Союза. Оно убило гитлеровцев больше, чем самый прославленный снайпер».

Илья Эренбург (второй слева) среди сотрудников армейской газеты
UBL/Vostock PhotoВскоре послание Симонова подхватил писатель Илья Эренбург в ставшей знаменитой статье «Убей». В ней сначала приводились цитаты из писем, найденных при убитых фашистах. В них захватчики пренебрежительно пишут о советских людях как о недочеловеках. Затем Эренбург переходил к призывам: «Мы знаем всё. Мы помним всё... Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».
140 лет Пабло Пикассо – великому художнику, любовнику и провокатору
В 1940 году Эренбург вернулся в СССР после 20 лет жизни в Европе, где он водил дружбу с авангардистами – Пикассо, Модильяни и другими легендарными художниками. Но помимо прочего маститый писатель был еще и опытным военкором. В годы Первой мировой он писал для газет репортажи с Западного фронта, а во время Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов делал очерки для «Известий».
Эренбург был ярым критиком нацизма, и, когда немцы оккупировали Париж, писателю лишь чудом удалось избежать ареста. Он укрылся в советском посольстве и вскоре уехал на родину, где еще больше злил немцев своей публицистикой, настолько, что Гитлер лично приказал повесить его. В немецких газетах Эренбурга называли «домашним евреем Сталина».
Эренбург работал в бешеном темпе, за годы войны написав более 1500 очерков. Он много ездил на фронт и по стране, фиксируя рассказы солдат и других свидетелей войны. Свою главную задачу в первые годы войны Эренбург обозначил так: «Писать буду прежде всего о нацистах. У нас еще не все знают, кто они». А он, прожив много лет в Западной Европе, уже хорошо изучил их нравы.
Эстеты на войне
Эмоциональные, но при этом мастерски написанные статьи Эренбурга, в которых писатель приводил множество примеров фашистских зверств в отношении мирных жителей, мотивировали советских солдат – он был одним из известнейших авторов «Красной звезды» и других газет.
Такой поворот судьбы было трудно предугадать: вчерашний эмигрант, писатель-эстет становится своим человеком для миллионов бойцов Красной армии, которые читают его очерки и, так же, как симоновские, аккуратно вырезают из газет, идущих на самокрутки.
Об авторитете Эренбурга говорит такой случай. Немецкий актер Фриц Расп, в конце 1920-х снявшийся в фильме по сценарию Эренбурга и получивший от него несколько книг с дарственными надписями, рассказывал, что, когда он, узнав о приближении советских войск, выкопал спрятанные в саду книги ненавистного Гитлеру автора и показал их русским солдатам, те, увидев фамилию человека, чьи статьи они почти каждый день читали в газетах, установили у дома табличку: «Здесь живет друг Ильи Эренбурга. Дом охраняется советскими войсками».
Именно Эренбург первым в советской литературе употребил словосочетание «День Победы», причем еще в декабре 1941 года в статье «Судьба Победы», посвященной подвигу железнодорожников при защите Москвы.
Военкором служил и один из любопытнейших представителей русского литературного авангарда Илья Сельвинский, автор нашумевшей поэмы-эпопеи «Уляляевщина», которой восторгался Маяковский. Поскольку у Сельвинского был немалый журналистский опыт (в середине 1930-х поэт работал в газете «Правда»), с началом Великой Отечественной его, пошедшего добровольцем на фронт, назначили корреспондентом газет Крымского фронта «Сын Отечества» и «Боевой натиск». Сочиненная им песня «Боевая крымская» стала гимном защитников полуострова. Поэт-военкор был дважды контужен в боях и перенес тяжелое ранение, но помимо известий о подвигах авангардиста до Сталина (как известно, интересовавшегося литературой и литераторами) доходили и слухи, что тот сочиняет какие-то подозрительные ернические стихи. Подполковника Сельвинского вызвали в Москву, распекли на заседании секретариата ЦК ВКП(б) и отстранили от службы как неблагонадежного.
Но он настойчиво просился на войну, и спустя год с лишним, весной 1945-го, Сельвинского все-таки восстановили в звании и направили на Второй Прибалтийский фронт писать для газет «Суворовец» и «На разгром врага».
«Без начала и конца»
Во время Великой Отечественной Александр Твардовский работал в газетах «Красная армия» и «Красноармейская правда». «В одной руке – винтовка, в другой – блокнот. И фотографы точно так же. Только они еще с камерой бегали – еще тяжелее. Правда, главным оружием все равно оставалось слово, – вспоминал писатель позже. – Там не до страха было – у тебя задание и блокнот в сумке, который нельзя порвать или намочить, иначе пиши пропало».

Александр Твардовский на площади Свободы в освобожденном от захватчиков Витебске, 26 июня 1944
UBL/Vostock PhotoНо главным его достижением стали не военные очерки, а поэма «Василий Тёркин» – «книга про бойца без начала и конца», пошедшая в народ и поднимавшая боевой дух лучше любых пламенных воззваний.
Первые истории о Тёркине, отважном, веселом и находчивом солдате, появились, когда во время советско-финской войны Твардовский был военкором газеты «На страже Родины». Причем очерки его были столь хороши, что Твардовский получил орден Красной Звезды.
Он был из семьи раскулаченных и много лет пытался откреститься от своего происхождения, воспевая сталинскую коллективизацию и всячески дистанцируясь от сосланных в Сибирь родных. К началу Великой Отечественной Твардовский умеренно прославился как советский поэт, в частности, стихотворением «Ленин и печник».
А его «Тёркин» стал одним из самых ярких феноменов военной литературы – той, что рождалась прямо на фронте, а не как осмысление завершившегося конфликта. Оптимизм и жизнестойкость Тёркина много значили для читавших поэму солдат. «Очень важно сохранять позитивный настрой, потому что отчаяние на войне убивает быстрее и мучительнее, чем пуля фрица», – объяснял сам автор. Неудивительно, что в 1944 году Твардовский получил за поэму орден Отечественной войны 2-й степени, а уже после победы «Тёркин» принес автору Сталинскую премию первой степени.
«Загадка для Запада»
Когда началась война, Борису Полевому было 33 года. До войны он жил в Твери и работал в местных газетах, постепенно собирая материал для своей будущей прозы – повестей «Горячий цех» и «Биография пролетарки». Названия этих произведений говорят сами за себя – твердый, чеканный соцреализм. Но прославили Полевого не они, а «Повесть о настоящем человеке» (1946) – история о летчике Маресьеве, вернувшемся в строй, несмотря на ампутацию обеих ног.
Как описывали Великую Отечественную фронтовики, ставшие поэтами и писателями
В войну Полевой был спецкором газеты «Правда». Рядовые репортеры завидовали ему – он мог добиться интервью, например, у Конева (в то время генерал-полковника), что было совсем непросто. После победы он попал в число избранных журналистов, освещавших Нюрнбергский процесс.
Алексея Маресьева Полевой встретил во время боев на Курской дуге: безногий летчик-герой в тот день сделал несколько боевых вылетов. Полевой сдал очерк в газету, но, как он сам рассказывал, редактор показал ему типографский оттиск с пометкой Сталина: «Интересно, но давать сейчас несвоевременно. Пусть товарищ Полевой напишет об этом подробней».
Подробней получилось три года спустя, когда Полевой в Нюрнберге услышал слова Геринга: «Сопоставляя силы, мы были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада». В этот момент Полевой вспомнил Маресьева и его невероятные, в каком-то смысле иррациональные упорство и мужество. Повесть была написана за три недели и стала одной из лучших книг о Великой Отечественной и о победе духа над материей вообще. Кроме «Повести» Полевой написал еще несколько военных книг: «От Белгорода до Карпат», «Мы – советские люди» и другие.
Настольная книга Че Гевары
Писатель Александр Бек начинал как военкор еще в Гражданскую войну: в 17 лет он уже был редактором газеты «Красное Черноморье». В 1930-х он писал для «Комсомольской правды» и «Известий», а также, как он сам формулировал, «прошел школу горьковских изданий», то есть был постоянным автором серий книг «Люди двух пятилеток» и «История фабрик и заводов», инициированных Максимом Горьким.
С началом Великой Отечественной он вступил в Писательскую роту Московского народного ополчения.
Бек был свидетелем и участником многих боев, дошел до Берлина. В 1942 году он находился в Панфиловской (8-й гвардейской стрелковой) дивизии, геройски проявившей себя при обороне Москвы. Из многочисленных бесед с солдатами и офицерами появилось «Волоколамское шоссе» – фактически документальное произведение об этом эпизоде войны, ставшем одним из ключевых. Симонов относил «Волоколамское шоссе» к числу лучших работ о Великой Отечественной, а Фидель Кастро и Че Гевара называли это произведение своей настольной книгой.
Главным героем повести стал писатель – комбат казах Бауыржан Момышулы, впервые применивший особую тактику ведения боя с превосходящим по численности противником, основы которой придумал Панфилов. Эта тактика получила название «спираль Момышулы» и с тех пор изучается в военных академиях многих стран.
Глазами художника
Андрей Платонов был гениальным писателем со сложной судьбой. Он искренне хотел служить советской власти (а точнее, идеалам революции), но был слишком авангарден и неформатен для нее. Его причудливо написанный «Котлован» – это не «Горячий цех» Бориса Полевого и не «Цемент» Федора Гладкова, добротные, идеологически безупречные образцы соцреализма.
Сокровенный инженер: 125 лет со дня рождения Андрея Платонова
Платонова запрещали, изгоняли, но он не сдавался и продолжал доказывать власти, что может быть полезен ей. В августе 1941 года 42-летний писатель ушел на фронт добровольцем, но вскоре его, как и многих других работников слова, перевели в военкоры. В звании капитана Платонов писал для газеты «Красная звезда». Он служил с полной отдачей, участвовал в обороне Москвы, Ржевской битве, сражениях на Курской дуге и многих других. Платонов много писал – и репортажи, и прозу. В годы войны с него был снят многолетний запрет на публикации, и Платонов выпустил семь небольших книг с очерками и рассказами.
Его главной темой был несгибаемый характер советского человека. Он увлеченно изучал и описывал типы однополчан, партизан и других участников войны, воспевая их достоинства. «Его увлекали не столько оперативные дела армии и флота, сколько люди. Он впитывал всё, что видел и слышал, глазами художника», – свидетельствовал главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг.
Железный ветер в лицо
Василий (Иосиф) Гроссман известен как автор военной эпопеи «Жизнь и судьба», описывающей события Сталинградской битвы. В отличие от другой масштабной книги о войне, «Живые и мертвые» военкора Константина Симонова, советская власть гроссмановское произведение не оценила – в начале 1960-х рукопись при обыске изъяли, и роман можно было бы считать пропавшим, если бы одна уцелевшая копия не всплыла и не была опубликована на Западе в 1980 году, уже после смерти писателя.
Какие песни слушали по разные линии фронтов Второй мировой войны
Химик по образованию, Гроссман начал писать в 1930-х, публиковался в «Правде» и «Литературной газете». Его повесть «Глюкауф» о донбасских шахтерах – а Гроссман работал химиком в Донбассе – хвалил Горький.
В первые военные дни Гроссмана определили в военкоры «Красной звезды». Он был на Центральном, Брянском, 1-м Украинском и других фронтах. Прошел всю битву за Сталинград, был удостоен за нее ордена Красной Звезды и получил звание подполковника. На мемориале Мамаева кургана высечены слова из его статьи: «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?»
Еще в 1942-м помимо многочисленных репортажей с фронта Гроссман написал и опубликовал повесть «Народ бессмертен». Ее и другие фронтовые повести писатель позже объединил в книге «Годы войны».
После войны Гроссман и Эренбург составили «Черную книгу» – собрание документов о холокосте. В СССР ее издание в последний момент запретили, рассыпав готовый типографский набор и объяснив это тем, что пострадавших от фашистов не надо делить по национальностям. В 1947 году книга вышла в США.

Михаил Шолохов, Евгений Петров и Александр Фадеев на фронте
UBL/Vostock PhotoВоенными корреспондентами Великой Отечественной были и писатели Михаил Шолохов, Константин Паустовский, поэт, автор песен «Подмосковные вечера» и «На безымянной высоте» Михаил Матусовский, философ Григорий Померанц и другие ныне известные люди. Но было много и тех, кто не стал знаменит, кто просто честно делал свою непростую работу солдата слова, или тех, кто погиб под пулями слишком рано, не успев стать большим поэтом или писателем. О них в вырезанных цензурой строчках «Корреспондентской застольной» Константин Симонов сказал: «Помянуть нам впору мертвых репортеров, стал могилой Киев им и Крым. Хоть средь них порою были и герои, не поставят памятника им».
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".