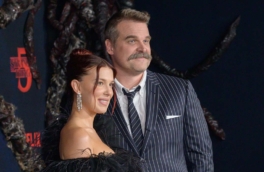Тут на днях сразу несколько человек поздравили меня с профессиональным праздником. Ну, поздравили и поздравили, сказал всем спасибо и только задним числом подумал: да что ж за праздник-то такой? День печати всю мою сознательную жизнь отмечался в начале мая и завязан был на выход в свет первого номера газеты "Правда" -- так в памяти и закрепилось. И нужно было некоторое усилие, чтобы вспомнить. Да, действительно, указом Ельцина аж от 1992 года был введен новый праздник -- День российской прессы, и праздновать его предписывалось 13 января, в честь выхода в январе 1703 года первого номера первой русской газеты "Ведомости".От Петра до большевиков
Ну, с ельцинскими праздниками почти всегда так -- еще ни один не прижился в массовом сознании, а здесь еще и накладка вышла, потому что день 13 января давным-давно занят -- старый Новый год и, вообще, конец долгого праздничного марафона, когда все уже выдохлись и от праздников хочется отдохнуть.
Однако дело нешуточное -- российской прессе, если не врут календари, как-никак, исполнилось триста лет. Она на десять лет моложе, чем российский флот, и на полгода старше, чем Санкт-Петербург. И с нею, как с флотом и с Петербургом, да как и со многими другими нововведениями Петра Великого, много чего за триста лет было -- и славного, и позорного, и трагического. Бывали эпохи -- как правило, кратковременные -- бурного, взрывного, революционного развития. В сущности, каждая "оттепель", выпадавшая русскому обществу, сопровождалась расцветом прессы. А бывали и долгие десятилетия застойного прозябания под чутким руководством цензуры -- сначала царской, затем коммунистической. И как-то до сих пор нет ощущения -- несмотря на то, что киоски ломятся от печатной продукции, а цензура давно канула в Лету, -- что российская пресса к своим солидным годам заняла подобающее ей место в обществе.
Конечно, история русской прессы -- это сразу несколько историй: слишком часто приходилось начинать на новом месте, отказываться от едва накопленных традиций, а потом снова делать попытку вернуться к ним. Но мы здесь не будем писать историю российской прессы, на то есть издания другого объема. А вот поразмышлять над ее спецификой, над ее проблемами, переходящими, как выясняется при ближайшем рассмотрении, из века в век, в юбилейные дни очень даже стоит.
Вот хоть с того же Петра начать и его "Ведомостей". Конечно же, это не было средство массовой информации в нашем, современном смысле слова.
Во-первых, информации в этом листке было маловато. Во-вторых, до появления в России грамотных масс было еще очень и очень далеко. Но Петр Великий многое делал как бы впрок и навырост, и своими "Ведомостями" он задал очень устойчивый для России формат отношений власти, прессы и общества.
"Ведомости" были задуманы откровенно пропагандистской газетой: здесь власть рассказывала подданным о своих великих успехах. Журналисту раз и навсегда вменялась функция чистого транслятора того, что власти желательно донести до внимания общества.
Потом этот формат воспроизводился у нас безотносительно к идеологии: до логического конца его довели большевики с их убеждением, что газета, прежде всего, пропагандист и агитатор, а вовсе не средство информации. Да и недаром кто-то назвал Петра первым русским большевиком. А характерной чертой большевиков всех времен и народов было стремление не к познанию действительности (эту потребность как раз и удовлетворяли обыкновенные, буржуазные СМИ), а к ее революционному преобразованию.
Даже и сейчас: вроде бы эпоха сменилась, и народилось некоторое количество изданий, которые гордятся как раз своей объективной буржуазностью, а полистаешь их да контекст восстановишь и почувствуешь очень отчетливый оттиск отечественной большевизанской традиции -- слишком пафоса много и в утверждении, и в отрицании. Очень хочется переделать жизнь и перевоспитать сограждан в правильном духе.
Я тут не говорю о газетах типа "Завтра" или "Новой" -- они своей роли передового отряда борцов и не скрывают. Нет, разного направления социальной педагогики не чураются куда более респектабельные издания.
Зона повышенной конфликтности
Что же касается российской власти, то она, начиная от Петра и кончая Путиным, всегда была убеждена, что хорошего -- помаленьку и желательно из ее, власти, рук. Петру ведь не пришло в голову, что одной газеты на империю маловато.
Так или иначе, пресса сразу же попала в зону бдительного внимания власти. Бдительным оно было всегда, только механизмы влияния менялись. Ну что такое, к примеру, представляла собой российская пресса в XVIII веке? Кружковые, почти домашние журнальчики да альманахи. Публики почти ноль, а соответственно, и влияния никакого. Однако Екатерина Великая зорко в ту сторону поглядывала, сама журнальчики издавала и могла (в пору своего увлечения идеями просвещенной монархии) с какими-то оппонентами полемизировать в открытой печати. А могла -- потом, когда повеяло суровым революционным ветром, -- неугодного автора и в крепость посадить, как было с Новиковым и Радищевым, пионерами русского книгоиздания и, соответственно, прессы. А сын ее, Павел I, ввел первый в истории России "железный занавес" -- при нем печатная продукция из-за рубежа была запрещена к ввозу.
Что уж говорить про ХIХ век, когда началось революционное движение и сделало своим оружием прессу -- подцензурную и вольную! "Колокол" Герцена загремел на всю страну. Тут уже началась война по всем правилам: цензура, суды, отсидки. Одних большевиков взять: вся их история была закручена вокруг "Искры" да "Правды", каждый второй из их верхушки был журналистом. Понимали это дело, так сказать, изнутри, а потому, когда пришли к власти, скрутили всю российскую прессу в бараний рог. И построили четкую, по-своему даже красивую иерархию: сверху пять-шесть центральных газет, ниже -- областные, районные и ведомственные многотиражки. Да особая кость, брошенная интеллигенции, -- "Литературка", придуманная лично Сталиным для выпускания лишнего пара.
Если и был в России период, когда власть не очень плотно опекала прессу, так это, может быть, только десятилетие ельцинского правления. Но и тут речь может идти лишь о столичных изданиях, потому что губернаторы, у которых при Ельцине власти было больше, чем сейчас, предпочитали, чтобы в их вотчинах выпускались те или иные варианты петровских "Ведомостей" с прославлением деяний начальства, а отнюдь не вольная пресса.
При Путине же развитие технологий опеки после недолгого перерыва продолжилось: навидались мы и споров хозяйствующих субъектов, наслушались и разговоров о продаже непрофильных медиа-активов. И даже вполне достойные, респектабельные господа -- и из властных структур, и из журналистской среды -- всерьез стали рассуждать не так давно о благодетельности введения цензуры.
Словом, и власть меняется, и пресса на месте не стоит, а вот их отношения как были в России зоной повышенной конфликтности, так и остались. И это притом, что пресса в России никогда не была и даже в последнее десятилетие не смогла стать четвертой властью -- говорить о ее сколько-нибудь серьезной конкуренции с реальными тремя, о каком-нибудь существенном весе и влиянии в современной политической жизни просто смешно.
Публика -- не дура
Это, между прочим, одна из самых загадочных особенностей современного русского журнализма: почему пресса, становившаяся в последние полтора десятка лет все свободней и свободней, неудержимо теряла не только влияние, но и простое уважение сограждан? Ведь если в социологические опросы заглянуть, так журналист с недавних пор -- одна из самых презираемых в народе профессий. Доверия журналисту еще меньше, чем думскому политику. И кстати, политики -- что думские, что кремлевские, -- чувствуя народные настроения, давно уже прессы не боятся. Зато очень хорошо научились использовать ее в своих интересах.
Причин тому много, в том числе и простых: кто ж будет отрицать, что среди журналистов встречаются продажные, и притом именно они как-то назойливо попадаются на глаза. Но корешки у этой проблемы, как мне представляется, все-таки глубже лежат.
В том числе не посторонняя здесь и отечественная традиция противостояния прессы и власти. Все понятно с властью: всякая власть озабочена, прежде всего, самосохранением. Но пресса -- когда ей, конечно, позволяли -- с таким ожесточением бросалась в борьбу с властью, так хотела сообщить власти нечто необыкновенно важное, что забывала о существовании еще одного субъекта всего этого замечательного процесса, -- о существовании публики.
Вроде бы ясно, что публика есть главный адресат прессы, но только не в России. И в ХIХ веке Герцен напрямую адресовался в своем "Колоколе" к Александру II, и в ХХ публицисты "Коммерсанта" и "Независимой" учили уму-разуму прежде всего Бориса Николаевича (который, к слову сказать, предпочитал не огрызаться).
В России есть ведь и еще одна давняя традиция -- не слишком-то уважительное отношение к публике. Пошло это, видимо, с тех советских времен, когда публика была и впрямь малообразованная, полностью зависела от власти и ничего не решала. О чем серьезном можно говорить с такой публикой? Только адаптировать для нее целеуказания начальства да непритязательно развлекать. Так и шло долгие годы.
А когда настала свобода, наша пресса разделилась на два мощных русла: одни (как им показалось) получили наконец-то возможность на равных разговаривать с теми, кто принимает решения (даже хвастливые слоганы этого смысла были в ходу: мы, дескать, издание для тех, кто принимает решения); а другие, соответственно, принялись развлекать народ, нисколько не повысив свое мнение о нем. И началась эпоха дебильных таблоидов.
А публика, вопреки этому мнению, не дура, она такие нюансы отношения к себе чувствует. И отвечает либо скукой (сколько ж раз можно читать однообразные вариации о подковерной борьбе семейных с питерскими и прочих мелких подробностях кремлевской политики), либо презрением. И откуда же на таком фундаменте воздвигнуться зданию четвертой власти?
За триста лет существования российской прессы осуществилось не так уж и много удачных газетных проектов. И все они базировались на уважении к мыслям и вкусам читающей публики, все они ориентировались на вовлечение в процесс чтения новых, только выходящих на историческую сцену социальных слоев.
Такова была, к примеру, "Северная пчела" Фаддея Венедиктовича Булгарина -- первая в России частная газета.
Может быть, 1825 год, когда она начала выходить, как раз и стоит считать годом настоящего начала российской прессы, потому что Булгарин стал издавать не скучный официоз, не кружковый листок для немногих, а действительно массовую газету, рассчитанную на тогдашний средний класс. Газета имела бешеный успех практически среди всех слоев населения, издавалась тридцать пять лет и сошла со сцены только тогда, когда настали новые времена -- времена Великих реформ. Именно читая "Северную пчелу", русская публика узнала, что такое очерк и фельетон -- жанры, в которых Булгарин особенно блистал.
Булгарина у нас воспринимают исключительно по школьным учебникам, как литературного врага Пушкина и агента III Отделения. Но это был один из умнейших людей своего времени, отлично понимавший роль и значение прессы в деле просвещения России. От него остались десятки -- не доносов, а, скорее, аналитических записок в III Отделение (а там неглупые люди сидели) с предложениями о цивилизованном устройстве театрального, книгоиздательского, школьного дела в России. Времена были глухие -- николаевское царствование, -- и с властями надо было дружить, но Булгарин свою дружбу с властями использовал, можно сказать, творчески. Он был, вообще говоря, первым профессионалом газетного дела в России. Его "Северная пчела" за время своего существования, может быть, воспитала в России больше читателей, чем все поэты пушкинского круга, вместе взятые.
Наверняка на опыт Булгарина ориентировался и А.С. Суворин -- издатель и редактор "Нового времени". В конце ХIХ -- начале ХХ века это была одна из самых информированных и влиятельных газет России. Терять влияние и репутацию она начала только тогда, когда Суворин перестал замечать динамику общественного мнения и тоже занялся игрой в диалог с властью. За газетой этой стойко укрепился эпитет "реакционная", но долгие годы она была вполне живой, и Антон Павлович Чехов не брезговал дружбой с Сувориным.
Кстати, именно такие издания, делавшиеся с полным уважением к чаяниям обыкновенной публики (а не для того, чтобы царям с улыбкой правду говорить или на низменных инстинктах толпы бабок заработать), были не только влиятельны, но и прибыльны. Суворин, к примеру, умер миллионером.
Сейчас, разглядывая пестрые газетно-журнальные лотки, видишь массу интересного, даже думаешь иногда: да кто же читает эту прорву периодики? При этом появляется и еще одно странное ощущение: как бы все это нахальное изобилие газет и газеток, журналов и журнальчиков общество не объединяет, а разделяет. Ну, то есть и Бог с ним: люди действительно разные и имеют полное право разойтись по интересам -- кому-то "Табурет", а кому-то "Автопилот". Каждый должен иметь право на свой уютный тупичок, где можно отдохнуть от жизни. Но при этом все-таки должно быть что-то такое, что читает с интересом и без раздражения вся страна, во всяком случае, большие группы людей, -- что-то вроде булгаринской "Пчелки". Увы, роль такого интегратора выполняет сейчас, скорее всего, телевизор, а это не совсем то.
Я, собственно, почему так озаботился проблемой разделения-объединения? Потому что к судьбе трехсотлетней российской прессы и к завоеванию ею достойного места в обществе это имеет самое прямое отношение. Люди начинают собираться вокруг какого-то печатного издания (и тем самым увеличивать его тираж и влияние) только тогда, когда чувствуют его выразителем своих интересов, идеалов, надежд. Чем больше вокруг такого издания собирается читающего народа, тем выше вероятность, что оно приближается к выражению общественного мнения (или мнения больших социальных групп). Ясно и четко выраженное общественное мнение в нашей стране -- уже давно огромный дефицит. Политикам население давно отказало в праве его выражать, а для прессы, в теории, -- это одна из главных профессиональных функций.
А если в стране огромное количество малотиражной периодики, так это косвенный признак прискорбной раздробленности общества. Речь вовсе не о том, чтобы привести его к общему знаменателю, речь об условиях, при которых пресса сможет наконец выполнять функцию четвертой власти.
В конце концов триста лет -- не такая уж и дряхлость. Поживем, поработаем.
АЛЕКСАНДР АГЕЕВ