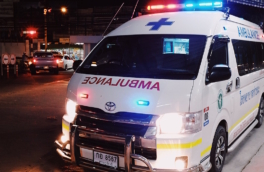История о том, как российская природа была принесена в жертву экономическому подъему. Мы как-то привыкли, что прямые указания президента и премьер-министра в России исполняются быстро. Сказал президент, что россияне много пьют, и вот уже Минздравсоцразвития выкатывает новую антиалкогольную программу. Съездил премьер в город Пикалево, и вот уже давний конфликт коммерческих структур потушен, а рабочим вернули долги по зарплате. Но, оказывается, так бывает не всегда. Несколько раз за последние два года высшие руководители страны говорили о необходимости воссоздания в России единого органа по контролю над экологией. Трижды требовали они от правительства и Думы разработать закон об обязательной государственной экологической экспертизе, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, о зонах экологического бедствия, об экологической безопасности транспорта. И что? А ничего. Специального органа, уполномоченного проводить экологическую экспертизу, как не было, так и нет. А природоохранные законопроекты, как мячики, пинают из Госдумы в правительство и обратно. Загадка...
Антисанитарный кордон
По данным ЮНЕСКО, от 44% заболеваний и до 60% смертей в мире вызваны состоянием окружающей среды. Чаще всего жизнь людям сокращают грязная вода и отравленный воздух. В развитых странах это поняли уже давно и ввели строгие экологические стандарты. Пожалуй, наиболее широкую известность получили европейские стандарты содержания вредных примесей и выхлопных газов в воздухе. Сейчас в ЕС уже действует экостандарт «Евро-4», но в конце 2009 года по настоянию председательствующей в ЕС Швеции будет введен еще более суровый «Евро-5». Бразилия и Япония заправляют авто биоэтанолом, сократив выхлопы газов на 45%. А вот Россия застряла в середине ХХ века. Ее экологические стандарты, некогда самые жесткие в мире, сегодня упали до уровня «Евро-2», при этом выбросы промышленных предприятий и выхлопы газов давно превосходят европейские. С потреблением воды у нас вообще беда. Страна стоит на грани медицинской катастрофы: используя всего 2% имеющихся запасов воды, Россия загрязняет почти 90% природных вод на своей территории. В процессе очистки воды используются технологии, которые никак нельзя назвать передовыми. Почти 80% водоканалов чистят воду лошадиными дозами хлора, что ведет к образованию побочных продуктов — четыреххлористого углерода, бром-хлор-углерода и хлороформа. Этот коктейль пьют больше половины жителей России. Он узаконен как экологический стандарт или «норматив по хлороформу в очищенной воде» — 200 мкг/л, в то время как в ЕС подобный стандарт почти в 20 раз ниже — 10—60 мкг/л. Даже в остальных странах БРИК норматив составляет 60—90 мкг хлороформа на литр очищенной воды. Отечественные водопроводные станции бессильны — существующие технологии не позволяют снизить показатель безопасности воды даже до 150 мкг хлороформа на литр. Чтобы пить нехлорированную воду и дышать незагаженным воздухом, надо строить высокотехнологичные очистные сооружения, что требует денег и времени, а главное — политической воли и экологического мышления. Ведь к едва ли не самым низким экологическим стандартам, уступающим по ряду параметров «развивающимся» странам, Россия скатилась в последние десять лет — после 2000 года, в период бурного экономического роста. И после упразднения в 1999 году единственного федерального органа, сдерживавшего темпы загрязнения природы, — Госкомэкологии.
С 2007 года в коридорах власти пошли разговоры, что Госкомэкологии может восстать из пепла. И не исключено, что в статусе нового министерства. «До сих пор никто внятно не объяснил, зачем Госкомэкологии вообще упразднили? — говорит Тамара Злотникова, бывший депутат Госдумы и одна из инициаторов восстановления независимой экологической экспертизы, существовавшей до 1999 года. — Его убрали тихо, под предлогом сокращения министерств и борьбы с неэффективностью разросшегося госаппарата. На самом деле тогда началось и продолжается по сей день разрушение российской природоохранной системы». Ведь Госкомэкологии был единственным органом, который, пусть непоследовательно и порой пасуя перед напором крупных корпораций, но противостоял наступлению на природу. Он мешал извлекать сверхприбыли — до 1999 года не менее трети проектов экологическую экспертизу не проходило. Благодаря этому удалось не допустить реализации устаревшего проекта высокоскоростной магистрали Москва—Петербург, приостановить варварское освоение нефтяных месторождений в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также стройки в национальных заповедниках Поволжья и Сибири. И поэтому лоббисты — нефте- и газодобыча и переработка, химиндустрия, черная и цветная металлургия (предприятия с годовым оборотом в миллиарды долларов) — представили дело так, что «надо выбирать: или они вкладывают прибыль в очистные сооружения, или инвестируют их в экономический подъем». Правительство выбрало экономический подъем.
В результате природоохранные функции были переданы ведомству, эксплуатирующему природу, — Министерству природных ресурсов (МПР) России. Шаг беспрецедентный — всюду в цивилизованном мире эти функции разделены. Стандарты государственной экологической экспертизы вскоре были понижены, низведя ее почти до символической формальности. Как рассказал источник «Профиля» в МПР, тогда в правительстве возобладала точка зрения, что «экологические заморочки» мешали массированному поступлению в отечественную экономику иностранных инвестиций, без которых она бы не поднялась. Было даже подсчитано, что двух-трехлетнее «устранение фактора Госкомэкологии» дополнительно принесет не менее $25 млрд капиталовложений в производственную сферу.
Однако 2—3 года плавно перетекли во второе десятилетие. Инвесторы в страну пришли, но, по разным оценкам (ГУ ВШЭ, «Гринпис России» и др.), до 70% промышленных предприятий, как старых, так и пустивших корни после 2000 года, отказываются строить или откладывают строительство новых очистных сооружений, предпочитая выплачивать экологические штрафы, максимальный размер которых — 600 тыс. рублей в год.
«Экологическая разнузданность гигантов индустрии привела к тому, что страна не справляется с потоком промышленных отходов, — говорит Наталья Комарова, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Госдумы РФ. — У нас скапливается до 40 млн тонн мусора в год, около 90% его вывозится на свалки, из-за которых многие города в буквальном смысле попали в антисанитарную блокаду».
Яркий пример — Тольятти, вокруг которого в 30-километровой зоне расположилось более шестидесяти хранилищ отходов общей площадью 523 га. И таких примеров не счесть. При этом перерабатывается менее 40% мусора.
С проблемой отходов тесно связаны две другие — загрязнение воды и воздуха. Вопрос, который сейчас обсуждается, — закрепление за питьевой водой статуса безопасности, который предусмотрен для пищевых продуктов. Нужно повышать и экологические стандарты защиты воздуха, а так же внедрять высокотехнологическую и инновационную переработку отходов, превращая их, например, в биогаз. Однако вопрос в том, кто будет реализовывать эти проекты в случае их принятия. Еще более сложная задача — контроль над соблюдением экологических параметров. Опыт последних лет показывает, что разрозненные госорганы — Росприродназдор, Роспотребнадзор и другие — не справляются с этими масштабными задачами, поскольку не обладают достаточными полномочиями и подчиняются разным ведомствам. А единого органа охраны природы у нас нет.
{PAGE}
О шансах на восстановление обновленного министерства экологии в 2007 году впервые обмолвился Владимир Путин. А в 2008-м кандидат в президенты Дмитрий Медведев тоже заметил, что «нужно рассмотреть вопрос о создании единого органа по контролю над экологией в стране». И вот тут антиэкологическое лобби пустило в ход тяжелую артиллерию. Используя господствующее представление о том, что рост российской экономики, как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе, определяется сырьевым сектором, оно настаивало на том, чтобы природоохранные функции сохранить за МПР. Однако последние годы наглядно показали, что «ресурсники» окончательно подмяли под себя «природоохранников» по всем направлениям — промышленные отходы почти не утилизуются; стандарты очистки воздуха и воды снижены до черты, угрожающей здоровью нации; в заповедных зонах и заказниках идет строительный бум; даже ввоз иностранных атомных отходов на переработку минует экологическую экспертизу. Фактически МПР демонтировало природоохранную систему. И это неудивительно, ведь задача ведомства — подготовить природные ресурсы к эксплуатации так, чтобы достигался максимальный экономический эффект. А это, как правило, противоречит экологическим интересам, суть которых заключается в поддержании баланса экосистем всех уровней и ограничении воздействия на них хозяйственной деятельности. Противоречие целей очевидно. Однако разделят ли «ресурсников» и «природоохранников» на два конкурирующих ведомства? Не факт. Схватка за природоохранный ресурс как рычаг влияния только начинается.
Неустойчивое развитие
Вернемся ненадолго к европейскому опыту. Совсем недавно комиссия ЕС запретила Латвии производство знаменитого «Рижского» хлеба. Мотивация — продукт, за которым москвичи в советское время ездили в Латвию на выходные, «не соответствует технологии производства с учетом сохранения природных ресурсов и окружающей среды». Если проще, технология выпечки «Рижского», куда замешиваются разрыхлители теста, различные ароматизаторы и добавки против быстрого зачерствения, признана еврокомиссарами от экологии вредной для здоровья. Мало того, оказывается, в процессе выпечки этого хлеба в воздух выделялся опасный диоксин. Другой пример. «Молочная» война между Белоруссией и ЕС немыслима в принципе, поскольку порошковое молоко в Европе запрещено еще в середине 1990-х как наносящее вред здоровью.
О чем говорят эти и подобные примеры? О том, что на структуру реального сектора экономики развитых стран давно, с конца 1960-х годов, оказывают влияние экологические требования к производимой продукции. И на Западе вначале считали, что вводимые экологические стандарты слишком затратны. Однако рынок гибко отреагировал на новации, и постепенно стали появляться компании, научившиеся извлекать доход из новых экологических нормативов. Бизнес быстро начал на них зарабатывать, предлагая системы очистки сточных вод и отходящих газов, экологическое оборудование для утилизации твердых и иных отходов. Как выяснилось, бизнес можно заинтересовать в расширении экологической стандартизации и ужесточении нормативов. В результате постепенно к концу 1980-х годов сформировался международный рынок экологических товаров и услуг. Современные компании, которые на этом рынке хотят быть успешными, обязаны «зеленеть», независимо от того, зарабатывают ли они на экологии или только тратятся. В итоге к концу ХХ века объем продаж на международном рынке экологических товаров и услуг перевалил за $0,5 трлн, а в 2008 году, по данным ЮНЕСКО, составил $1,3 трлн и растет быстрее других секторов мирового рынка. Так забота о природе и собственном здоровье стала правилом хорошего тона для западного бизнеса. Эта модель в Европе получила название sustainable development (англ. — «устойчивое развитие»); по сути, это курс на развитие мировой экономики с учетом сохранения природных ресурсов и окружающей среды.
«По темпам роста ВВП наша страна находится среди ведущих стран мира, а по индикаторам устойчивого развития, подразумевающего формирование общества без нарушения природного баланса, — в ряду отстающих. — говорит Владимир Захаров, президент Центра экологической политики России, член-корреспондент РАН. — Самым простым и надежным показателем устойчивого развития может быть энергоемкость и природоемкость. Для этого нам необходим целый ряд мер, нацеленных на повышение энергетической эффективности. В этом смысле меня обнадеживает стратегический курс на повышение энергоэффективности к 2020 году на 40%. Это был бы шаг к устойчивому развитию».
Однако, по мнению экспертов Института проблем рынка РАН, дорога России к устойчивому развитию, скорее всего, будет долгой и извилистой. Так, по данным экспертизы Института проблем рынка РАН, прямой годовой экономический ущерб вследствие антропогенных воздействий на окружающую среду в середине 1990-х годов составлял примерно 10—11% от объема ВВП. В 2005-м он вырос до 13—14% в год, поскольку, как утверждают эксперты Института проблем рынка РАН и ГУ ВШЭ, рост негативных воздействий на окружающую среду обгонял рост экономики.
«Страна много теряет в форме прямого экономического ущерба от экологических нарушений, — говорит Вячеслав Рожнов, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции РАН. — Правда, оценка потерь — сложная задача. Я могу привести лишь ориентировочные суждения. По официальным данным Росстата, предотвращенный экономический ущерб в результате деятельности природоохранной системы в лице Госкомэкологии в 1999 году составил 20,8 млрд рублей. С тех пор подобные расчеты ввиду отсутствия Госкомэкологии не проводились. Но мы должны понимать: методики вычисления этого показателя дают заниженную статистику. К тому же наносимый ущерб в разы превосходит предотвращаемый».
Как утверждают специалисты из ГУ ВШЭ, проблема еще и в том, что считается только прямой ущерб (потери от повышения заболеваемости населения и расходов на лечение, снижение количества и качества природных ресурсов, рост затрат на очищение воды и воздуха, ускоренный износ зданий из-за грязного воздуха и т.д.).
{PAGE}
Себе дороже
Однако существуют и косвенные потери, которые с ростом влияния идей устойчивого развития перекроют затраты от прямого ущерба. Дело в том, что стандартизация и нормирование в экологии давно вышли на международный рынок и начали диктовать условия доступа на него. Первоначально это были нормативы экологического качества и безопасности продукции. Именно им российское общество обязано модой на экологическую сертификацию товаров и появление разборчивых потребителей, которые внимательно изучают товарные этикетки. Но теперь начался новый этап экологизации производства — нормирование экологических параметров современных технологий, с помощью которых вырабатывается продукция. Именно поэтому у экологического контроля ЕС возникли претензии к «Рижскому» хлебу, доступ на внешний рынок которому перекрыт из-за вредных для окружающей среды технологий производства. Для России это не просто звоночек — колокольный звон. Дело в том, что ЕС и США виртуозно используют нормирование параметров современных технологий в конкурентной борьбе за рынки сбыта. Так, с 2000-го по 2008 год Новочебоксарский ОАО «Химпром», бывший спецзавод №4, производивший слезоточивые газы и фосфорорганические отравляющие вещества, выполнил все условия Международной конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. Ликвидировав вредное производство, завод перешел на мирную химиндустрию — производство перекиси водорода, красителей, пластификаторов и прочей «химии», соответствующей параметрам высокотехнологичного производства ЕС. Это признали и международные эксперты. Однако, несмотря на высокий спрос и соответствие стандартам качества, страны ЕС не пускают «Химпром» на свой рынок. На вопрос «Профиля» «Почему?» начальник отдела развития и сбыта Новочебоксарского ОАО «Химпром» Игорь Поляков ответил: «Мы не до конца ликвидировали цеха вредного производства, выбросы в атмосферу от которых превышают предельно допустимые нормы. И, несмотря на соответствие стандартам качества новой продукции, высокий экологический барьер, установленный ЕС, пока преодолеть не удается».
Как прогнозируют эксперты, в будущем при попытках России встроиться в мировую экономику экологические требования, установленные ЕС и ВТО, не удастся обойти не только товарам нового поколения, но и товарам традиционного экспорта. Критерий допуска на мировой рынок прорисовывается все жестче — даже если продукт современен и экологически безопасен, но произведен с превышением допустимых стандартов загрязнения окружающей среды, вход на мировой рынок ему будет с высокой долей вероятности закрыт. Так уже конкуренты поступают с российской высококачественной сталью, прокатом, трубами и другой продукцией черной и цветной металлургии. При этом сколько угодно можно возмущаться недобросовестной конкуренцией, но эта российская продукция действительно изготовлена с мыслимым и немыслимым загрязнением окружающей среды. Правда, добыча нефти и газа тоже ведется у нас варварскими методами, но их все же покупают, в первую очередь страны ЕС, закрывая глаза на экологию. Но и здесь грядут перемены.
«В скором будущем запреты на приобретение продукции, не соответствующей нормам экологических технологий, могут быть распространены и на продукцию нефтепереработки и нефтеоргсинтеза, алмазы, минеральные удобрения, пушнину и даже на нефть и газ, — говорит Александр Минин, ведущий научный сотрудник Института глобального климата и экологии РАН. — Так, пренебрежение российского бизнеса и экономического истеблишмента к экологии и игнорирование новой реальности в развитых экономиках может привести к тому, что Россия превратится не только в экологического, но в экономического изгоя в мировом сообществе».
Позеленеть от ожидания
Как считают эксперты Института проблем рынка РАН и Института глобального климата и экологии РАН, начать решение проблемы можно было бы с простой меры — восстановления в структуре федеральной власти независимого природоохранного органа. Как полагают эксперты, скорее всего, он уже не будет называться Госкомэкологии, но идея отделения государственной экологической экспертизы от МПР сегодня прорабатывается на уровне правительства, президиума Госсовета и РАН. Впрочем, скептики предостерегают от излишнего оптимизма. Ведь проекты создания такого органа дважды — в 2003-м и в 2007 году — доходили до правительства и там благополучно «зависали». Как объясняет источник «Профиля» в МПР, идея восстановления самостоятельного природоохранного ведомства «отправляется на доработку» отечественными сырьевыми корпорациями и примкнувшими к ним чиновниками и депутатами. Они и «футболят» проекты законов — об обязательной государственной экологической экспертизе, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, о зонах экологического бедствия и об экологической безопасности транспорта.
«Честно говоря, я не верю в воссоздание подобия Госкомэкологии, — говорит Иван Блоков, координатор «Гринпис России». — Не видно никаких признаков движения в этом направлении. Максимум, на что согласятся представители реального сектора экономики, особенно сырьевых его блоков, это приподнять с колен, но не дать встать на ноги госэкспертизе по экологии. И не потому, что они этого хотят, а просто нужна имитация перемен — вот они ее и выдадут, в основном для экспортного употребления. Внутри же страны все останется, как есть, пока не сформируется массовое общественное экологическое движение — против грязных воды и воздуха, против куч мусора и той прибыли от них, которая оседает в карманах олигархии».
Экспертиза Института глобального климата и экологии РАН видит иную перспективу. Дело в том, что около 65% или 11 млн кв. км территории России занято дикой природой, сохраняющей, по данным ЮНЕСКО, биоразнообразие. Эти экосистемы выполняют важнейшие функции по поддержанию равновесия современной биосферы, которая не знает государственных границ. На этих пространствах живут до 7% россиян. Остальная часть общества обитает на 20% российской земли, где сохраняются поврежденные, но не угнетенные экосистемы, еще способные справляться с поступающими потоками загрязнений. Просто природе надо помогать переваривать это техногенное воздействие. А поскольку мир начинает понимать не только то, что природные ресурсы исчерпаемы, но и то, что экосистема Земли может стать непригодной для жизни, давление на Россию ради того, чтобы 65% ее территории оставались занятыми дикой природой или хотя бы не осваивались варварски, по прогнозам ученых, будет только расти. Иначе и страна, и мир могут превратиться в зону бедствия. В кулуарах ученые признают, что давление на Россию будет нарастать — за счет непризнания ее товаров безопасными или экологичными.
«У нас еще есть время законодательно закрепить общественный экологический контроль на всех уровнях, — убежден Владимир Захаров. — Если начнутся позитивные сдвиги, то из протестного экологическое движение может превратиться в конструктивное, то есть перейти к сотрудничеству с властью. Для этого помимо воссоздания независимого природоохранного органа необходимо соответствовать международным экологическим стандартам охраны природы — создать Единый государственный экологический мониторинг, ввести систему экологического нормирования.
И если мы хотим быть полноправно представленными на мировом рынке, то надо разрабатывать нормирование экологических параметров современных технологий, которые соответствовали бы международным стандартам». Только так, считают в Центре экологической политики России и в Институте глобального климата и экологии РАН, страна может приблизиться к стратегии устойчивого развития. В «Гринпис России», типичном протестном экологическом движении, с этим не спорят. Вот только относительно сроков выработки новой политики сомневаются: «Да мы позеленеем от ожидания».