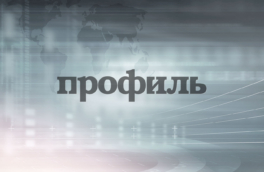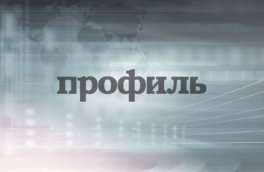– Среди лидеров Индекса восприятия коррупции (ИВК) нельзя не заметить целый ряд весьма небогатых стран, в том числе таких, как Эстония и Латвия и даже африканская Ботсвана, ВВП на душу населения в которой более чем в 10 раз ниже развитых держав. Это не случайность?
– Если искать связь между уровнем коррупции и экономическими показателями разных стран, то будет немало исключений. И у каждого – свое объяснение. У той же Ботсваны. Не так давно я была в этой стране, встречалась с коллегами из местного отделения Transparency. Отличие этой страны от соседней ЮАР заметно уже из окна самолета. Когда летишь над территорией Южно-Африканской Республики, видишь путаницу дорог, чаще грунтовых, как только перелетаешь границу Ботсваны, они вдруг становятся прямыми и ровными, с хорошим асфальтом. Даже с высоты птичьего полета видно – там с гос-управлением неважно, а здесь хорошо. В Ботсване высокая институциональная прозрачность, что и обеспечивает относительно низкий уровень коррупции, сужает возможности для злоупотреблений чиновников. Работа госорганов, их решения, документы находятся под контролем разных структур – генерального аудитора, судов, общественных организаций, прессы. У них даже уполномоченный по противодействию коррупции называется уполномоченным по государственной прозрачности. Все это стало результатом некоего общественного консенсуса – да, мы не очень богато живем, но именно поэтому считать надо каждую копейку. Почему здесь так, а в соседних странах иначе? Это уже результат становления Ботсваны как государства в процессе распада Южно-Африканского союза.
– Что обеспечивает высокий ИВК бывших советских прибалтийских республик?
– Это другая история, причем в каждой из стран Балтии своя. Самых заметных успехов в этом плане добилась Эстония. Еще в середине 1990‑х там сделали важный институциональный выбор – создание настоящего электронного правительства. Каждый документ в госведомствах сохраняется в базах данных и жестко персонифицируется: на каждой стадии фиксируется, кто именно предложил его подготовить, участвовал в разработке, вносил поправки и т. д. Это называется legislative footprint – законодательный след, по которому любую нормативную инициативу можно соотнести с конкретным чиновником и в случае необходимости или подозрений спросить или узнать, какая и у кого именно могла быть выгода или умысел. Таким образом, полностью снимается распространенная у нас проблема, когда найти «концы» того или иного решения невозможно.
Литва и Латвия пошли иным путем. Сейчас там тоже внедряют систему legislative footprint, но изначально ставку сделали на то, что принято называть «сингапурской моделью», то есть создание антикоррупционного ведомства с особыми полномочиями. В Латвии оно называется KNAB. Хотя, надо отметить, на самом деле «сингапурской модели» не существует – то, что сделал в этой стране первый премьер Ли Куан Ю, никто повторить не смог. Он создал своего рода суперведомство или даже суперсистему, которая действовала автономно и пронизала все органы власти, отобрав часть функций у прокуратуры и правоохранительных структур, у правительства и даже сферы образования и культуры. Внедрялась эта система в Сингапуре жесткими авторитарными методами, сопротивление жестко подавлялось.

В Литве и Латвии, а также Словении и Румынии, которые тоже выбрали этот путь, обошлись менее суровыми реформами, но появление антикоррупционных бюро в 2001–2002 годах тоже дало результаты, особенно поначалу. Но потом в Литве и Латвии эти ведомства стали втягивать в политическую борьбу, из-за чего их эффективность упала. Как признают наши коллеги и в Литве, и в Латвии, у них более чем достаточно проблем и с политической коррупцией, и даже на уровне муниципалитетов. Тем не менее медленное поступательное движение в этих странах заметно. В том числе и за счет внедрения новых моделей поведения для чиновничества, которое обставляется все большим числом требований по прозрачности решений, отчетности.
– Как объяснить довольно высокие антикоррупционные показатели арабских стран, таких как, например, Катар, ОАЭ или Саудовская Аравия? Это следствие резкого взлета их благосостояния в конце XX века на волне нефтяного бума?
– Их можно отнести к исключениям из правил по другой причине – отсутствия достоверной информации. Это страны, закрытые в информационном плане, неохотно сотрудничающие с неправительственными организациями. При составлении ИВК мы обычно используем более десятка разных источников – исследования негосударственных организаций, доклады правительств и отдельных ведомств, которые составляются по запросам разных структур, организаторов форумов, международных банков, таких как ЕБРР, АБР и т. д. Документы эти могут быть по самым разным темам, но мы берем из них интересующие нас цифры. Чем больше источников информации, тем более близкая к реальности картина получается. Необходимый минимум в нашем случае – три источника. По целому ряду стран, включая и эти арабские, мы можем найти всего 3–5 исследований, и то, как правило, исключительно официозного происхождения. Это, кстати, относится и к Белоруссии. В 2000‑х годах, когда местные власти запретили у себя деятельность всех международных организаций, мы не смогли собрать данные, и Белоруссия вообще не присутствовала в ИВК. Такое случается довольно часто, и именно поэтому мы всегда обращаем внимание, что место, занимаемое той или иной страной в ИВК, – не показатель, поскольку общее число стран в перечне год от года может меняться. Главный показатель – сам индекс ИВК.
К тому же надо учитывать, что те же Катар и Саудовская Аравия – абсолютные монархии. То есть если речь идет о коррупции и воровстве, то именно монарх и является главным потерпевшим, ну, может, еще его ближайшие родственники. Так что понятия коррупции и борьбы с ней в монархиях – вещь весьма условная.
И сам ИВК не стоит рассматривать как абсолютную величину. Наша методика показывает лишь примерный уровень «восприятия» коррупции в той или иной стране, а восприятие по определению субъективно. Чтобы иметь более-менее выпуклую картину, на ИВК надо смотреть в совокупности с другими исследованиями, которые проводит Transparency, такими, как Барометр мировой коррупции, Индекс взяткодателей, Прозрачность корпоративной отчетности, Прозрачность национальных госинститутов, и т. д.
– Какие факторы в первую очередь определяют уровень коррупции в тех или иных странах?
– Если говорить об отстающих, каковых в мире большинство, то главную роль играет, конечно, неэффективность государственных институтов. Это наглядно видно внизу и в середине перечня ИВК. Южный Судан, Афганистан, Сомали, например, – это так называемые failtl state, страны с разрушенными или не состоявшимися государственными системами. При сопоставлении экономических показателей, в том числе ВВП на душу населения – крайне низкого в этой группе, – видно, что государство там не может обеспечить ни соблюдение законов, ни пополнение бюджета. Те, у кого показатели лучше, жертвы просто слабых государственных институтов – худо-бедно они могут обеспечить порядок и собирать налоги, но не в состоянии пресечь массовые злоупотребления чиновничества, использующего свою власть и полномочия для личного обогащения. К этой категории «середнячков» относятся и страны т. н. «сырьевого проклятия», вся экономика и относительно высокие доходы которых обеспечены лишь продажей сырьевых ресурсов. Легкие деньги дают массу дополнительных соблазнов обогатиться в обход принятых норм и законов.
А вот как и почему развитые страны смогли это преодолеть, отчасти философский разговор. Например, можно обратить внимание, что самый низкий уровень коррупции наблюдается в протестантских странах – Дании, Норвегии (которая, кстати, также относится к сырьевой), Швеции, отчасти Германии. То есть немалое значение имеет исторически сформированная модель поведения. Другой не менее важный фактор – роль личности в истории. Без него не было бы никакого Сингапура, Гонконга и, как ни странно, даже США в их нынешнем виде. В США до мирового кризиса 1929 года была очень тяжелая ситуация с коррупцией. И именно Рузвельт, пытаясь преодолеть последствия Великой депрессии, провел масштабную административную реформу, что сняло проблему бытовой коррупции. На более высоком уровне США сделали шаг вперед лишь после скандала с отставкой президента Никсона. Тогда всплыли факты не только прослушки политических оппонентов, но и массового подкупа американскими корпорациями контрагентов по всему миру. Именно это послужило толчком к принятию многих норм – законов RICO (по противодействию инвестированию средств от рэкета и коррупции), FCPA (о противодействии коррупции за рубежом), об обязательном декларировании доходов госслужащими и многих других, которые и определяют нынешние правила жизни и ведения бизнеса в стране.
Сейчас, кстати, можно наблюдать, аналогичные процессы в других странах. Великобритания реализует ряд важных антикоррупционных мер, принятых еще по инициативе прежнего премьер-министра Кэмерона. В этом направлении разворачивается и Китай. До последнего времени там декларировали борьбу с коррупцией лишь внутри страны, показательно расстреливая чиновников, но за рубежом китайские компании, как государственные, так и частные, использовали подкуп для завоевания рынков в массовом порядке. Теперь к китайским товарищам приходит понимание, что быть честным только по одну сторону «забора» невозможно. И Китай начинает подключаться к международным конвенциям о трансграничной коррупции, раскрытии офшорных данных и т. д.