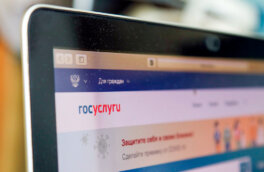Смогут ли санкции заставить Китай отказаться от российской нефти

Сварка первого стыка нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", 27 апреля 2009 года
©Григорий Сысоев/ТАССВ октябре Запад нанес новый удар по российскому нефтяному сектору. Сначала Великобритания ввела блокирующие санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл». Неделей позже, 22 октября, США объявили о санкциях в отношении этих компаний и 34 их дочерних структур. На следующий день ЕС ввел 19-й пакет санкций против российской энергосистемы, включающий полный запрет на транзакции для «Роснефти» и «Газпром нефти».
Самыми серьезными последствиями для российских компаний и их «дочек» чревато занесение в американский SDN-лист, поскольку это означает не только блокировку всех активов этих компаний в США (а их там, по сути, и так нет), но и угрозу для их иностранных контрагентов подпасть под вторичные санкции. Компаниям, покупающим российскую нефть, Вашингтон велел к 21 ноября прекратить все подобные операции.
Сегодня крупнейшие покупатели российской нефти – Китай, Индия и Турция. Из всего объема российского нефтяного экспорта в размере 4,8 млн баррелей нефти в сутки (б/с) в Китай идет примерно 1,9 млн б/с, в Индию – 1,7 млн б/с, в Турцию – 0,3 млн б/с. Таким образом, вводя санкции, Дональд Трамп рассчитывает, что компании из Индии и Китая, чтобы не подпасть под вторичные санкции, прекратят или существенно сократят закупки российской нефти. А это, в свою очередь, лишит Москву средств для продолжения спецоперации на Украине.
Чтобы оценить реалистичность намерений Трампа принудить Китай отказаться от российского черного золота, стоит изучить основные тенденции в китайском потреблении и импорте нефти, а самое главное – понять, насколько важны для КНР поставки из России.
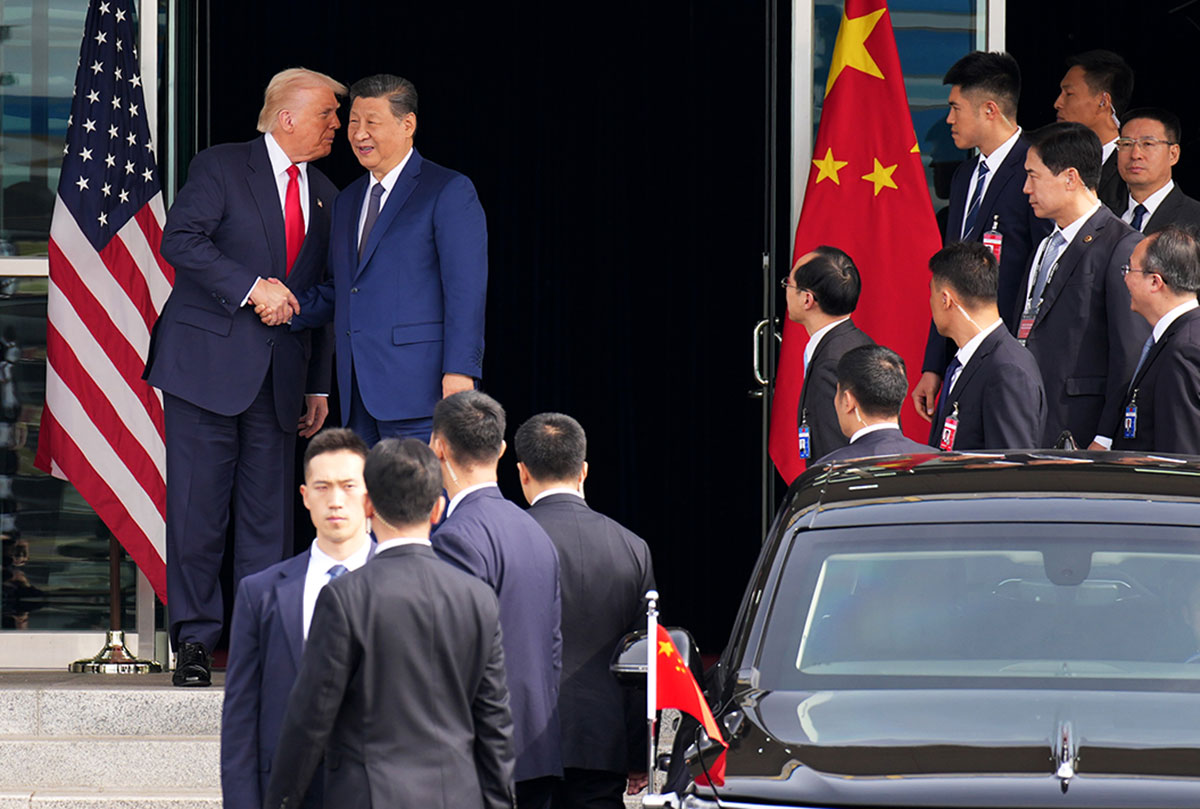
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в Пусане, 30 октября 2025 года
Andrew Harnik/Getty ImagesПотребность Китая в нефти
Китай часто характеризуют как страну, испытывающую энергетический голод. Это очень точная формулировка, подтверждаемая статистикой. Китай занимает второе после США место в общемировом зачете по потреблению нефти. В прошлом году, по оценкам британской некоммерческой организации Energy Institute, из 101,4 млн б/с нефти в мире на Китай пришлось 16,4 млн б/с, или 16% ее мирового потребления. При этом КНР значительно опережает другие страны по темпам роста потребления нефти. Так, в период с 2013 по 2023 год на долю Китая пришлось более 60% мирового роста спроса на нефть.
В последние несколько лет, однако, в этой сфере наметились перемены. В прошлом году было зафиксировано снижение потребления нефти в Китае на 1,2% в годовом исчислении, и, как ожидается, спрос на нефть в предстоящие годы замедлится. Это связано с быстрой электрификацией транспорта в КНР (переход на электрокары сокращает спрос на бензин), растущей популярностью грузовиков на СПГ и спадом в секторе недвижимости (ослабляет спрос на дизельное топливо), развитием высокоскоростного железнодорожного сообщения и метрополитена, а также с тем, что Китай перестраивает свою экономическую модель, уделяя больше внимания развитию сферы услуг, а не наращиванию производства.
Сейчас спрос на нефть в КНР определяет в первую очередь нефтехимический сектор. В 2024-м в связи с вводом в эксплуатацию новых нефтехимических заводов нефти понадобилось на 5% больше, чем годом ранее. Ожидается, что в ближайшие годы потребность нефтехимической промышленности в черном золоте продолжит расти умеренными темпами и компенсирует падение спроса на него в транспортном сегменте. Иначе говоря, Китай по-прежнему останется главным импортером нефти в мире.
Одной из важнейших национальных задач наряду с обеспечением продовольственной безопасности и безопасности цепочек поставок руководство КНР считает обеспечение энергетической безопасности. Растущую потребность в нефти Китай неспособен удовлетворить за счет добычи внутри страны – в прошлом году около 74% потребления нефти в стране было обеспечено импортом. Чтобы снизить соответствующую уязвимость, особенно в условиях геополитической нестабильности, КНР интенсифицирует усилия по разведке и разработке месторождений на своей территории, что сопряжено с большими сложностями, ускоренными темпами строит нефтехранилища (в течение двух лет их должно стать на 11 больше), стремится диверсифицировать поставщиков, маршруты и способы импорта нефти.
Россия в системе нефтяного импорта Китая
В 2024-м Китай импортировал 11,1 млн баррелей нефти в сутки, две трети из которых пришлось на пять крупнейших поставщиков: Россию (20% от всего китайского импорта нефти), Саудовскую Аравию (14%), Малайзию (13%), Ирак (11%) и Оман (7%). По сравнению с предшествующими годами импорт из одних стран увеличился, из других – сократился. Так, объем поставок из России растет третий год подряд. Введенные после 2022-го против нее санкции сделали Россию еще более крупным поставщиком нефти в Китай, заставив перенаправить экспортные потоки с европейских рынков и предоставлять существенные скидки.
Еще одна тенденция: третий год подряд снижается импорт нефти Китаем из Саудовской Аравии, но увеличивается из Малайзии. По оценкам специалистов, значительная часть нефти, приписываемая Малайзии (как и ОАЭ с Оманом), – это сырье из Ирана и в меньшей степени из Венесуэлы, которое выдается за малайзийскую нефть, чтобы избежать американских санкций. Для Пекина, судя по всему, дисконты или сниженные цены – определяющий фактор при принятии решений об импорте нефти, а нахождение ее поставщиков в санкционных списках США – второстепенный.
В прошлом году порядка 90% импортируемой нефти было доставлено морским путем, а остальная часть – сухопутным из России, Казахстана, Монголии и Мьянмы. В поставках по суше доминирует Россия, здесь ее доля составляет около 95%.
В структуре сухопутных перевозок преобладают поставки по нефтепроводам. У КНР трансграничных нефтепроводов всего три: с Россией (пропускная способность – 30 млн т нефти в год, или около 0,6 млн б/с), Казахстаном (20 млн т, или 0,4 млн б/с) и Мьянмой (12 млн т, или 0,44 млн б/с). При этом по трубе из Казахстана в Китай главным образом идет российская нефть: согласно российско-казахстанскому межправительственному соглашению, транзит российской нефти по этому нефтепроводу предусмотрен в размере 10 млн т, и только около 2–3 млн т казахстанской нефти поступает в Китай. В мае Москва и Пекин согласовали увеличение поставок через Казахстан на 2,5 млн т, до 12,5 млн т в год. По нефтепроводу из Мьянмы идет преимущественно транзитная ближневосточная (из Саудовской Аравии) и африканская нефть.
Россия поставляет нефть в Китай по трем основным маршрутам. По уже упомянутому нефтепроводу транзитом через Казахстан (около 10 млн т в год, или 0,2 млн б/с), по ответвлению от нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) от НПС Сковородино до китайского Мохэ (30 млн т в год, или около 0,6 млн б/с), а также танкерами по морю, главным образом из дальневосточного порта Козьмино (около 1,4 млн б/с). В основном это нефть марок ESPO (ВСТО) и Sokol (с проекта «Сахалин-1»), а также немного нефти сортов Urals и Arctic Oil. Покупают ее китайские компании CNPC, Sinopec, CNOOC и независимые нефтеперерабатывающие заводы.
Всего, согласно китайской статистике, КНР в прошлом году импортировала около 2,19 млн б/с российской нефти, из которых около 1,4 млн б/с (или 64%) – морским путем, а оставшуюся часть (36%) – по трубопроводам. Эти данные имеют прямое отношение к вопросу перспектив влияния американских санкций на поставки в Китай, поскольку около 0,8 млн б/с российской нефти (из общего объема 2,19 млн б/с), идущей по трубопроводу, не будут затронуты новыми санкциями априори. Речь может идти только о влиянии на морские поставки.

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань и заместитель премьер-министра РФ Игорь Сечин на закладке нефтеперерабатывающего комплекса в Тяньцзине, 21 сентября 2010 года
Picture Alliance/Vostock Photo«Санкционка» для «чайников»
За последнее десятилетие импорт Китаем нефти претерпел существенные изменения. Одним из них стало увеличение в общем объеме закупаемой Китаем нефти той, которая подпадает под санкции США и ЕС. По оценкам западных экспертов, эта «запрещенка» в 2024 году составила свыше одной пятой всего импорта нефти в Китай. Сюда входят 1,4 млн б/с из Ирана, 0,27 млн б/с из Венесуэлы и 0,82 млн б/с российской нефти, поставляемой на танкерах, подпадающих под санкции.
Во взаимодействии с подсанкционными нефтяными компаниями Китай выстраивает «ось уклонения», которая позволяет Пекину получать в краткосрочной перспективе выгоду от дисконтированного импорта нефти и одновременно путем создания альтернативной торговой и платежной систем защитить поставки от будущих экономических ограничений.
Так, в последние годы Китай увеличил импорт иранской нефти, создав параллельную сеть грузоотправителей, нефтеперерабатывающих заводов и финансовых учреждений, позволяющих скрыть импорт и обойти санкции. Нефть перевозится «теневым флотом» старых танкеров, которые используют различные уловки, чтобы избежать обнаружения: отключают системы идентификации при заходе в иранские порты, дезинформируют о местоположении, осуществляют перевалку с судна на судно за пределами разрешенных зон перевалки под прикрытием плохой погоды и так далее.
Основные покупатели «санкционки» – китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы, расположенные преимущественно в прибрежной провинции Шаньдун и именуемые «чайниками». На «чайники» приходится более одной пятой нефтепереработки Китая. Они работают с низкой маржой и очень мотивированы скидками на санкционную нефть. «Чайники» уже накопили огромный опыт уклонения от американских санкций и искусно находят обходные пути поставок.
Иногда «чайники» сами подпадают под санкции. Но, как показывает опыт, событие это неприятное, но не трагическое. Так, в 19-й пакет антироссийских санкций включен китайский нефтеперерабатывающий завод Shandong Yulong Petrochemical Co. Половина перерабатываемой им нефти была из России, а другая половина – из разных мест, включая Канаду, Ближний Восток, Анголу и Бразилию. После подпадания под санкции заводу пришлось полностью перейти на импорт российской нефти.
Угроза вторичных санкций может рассматриваться как серьезный сдерживающий фактор для крупных китайских компаний (прежде всего государственных нефтегазовых компаний, таких как CNPC, Sinopec и CNOOC), имеющих разветвленную сеть зарубежных партнеров, доля которых в совокупности серьезно перевешивает российский сегмент. Для остальных же китайских компаний санкции не будут носить критический характер.
Показателен пример российских «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», которые с подачи покидавшей Белый дом администрации Джо Байдена попали в SDN-лист. Санкции заставили обе компании временно ввести дисконт на нефть, использовать различные серые схемы, удлинить цепочку поставок и регулярно адаптировать ее из-за подпадания посредников под санкции. Однако в конечном счете влияние ограничений на бизнес обеих компаний не было катастрофическим – объемы добычи и экспорта почти не снизились по результатам первого полугодия текущего года. Даже при попадании в SDN-лист нефтяные компании могут работать и экспортировать продукцию.
В целом за несколько лет усиливающегося санкционного давления Россия уже накопила изрядный опыт обхода таких запретов. Занесение «Роснефти» и «Лукойла» в SDN-лист – событие, конечно, неприятное, но точно не ужасное. Компаниям придется временно ввести дисконт на нефть, перестроить логистику, включить в цепочки поставок дополнительных посредников (финансовые организации, трейдеры, операторы судов и прочие), задействовать «теневой флот» и тому подобное. Это позволит компаниям сохранить объемы экспортных поставок нефти, хотя и приведет к росту издержек, дисконтов и стоимости фрахта.
Яна Лексютина, заместитель директора ИКСА РАН, профессор СПбГУ
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".