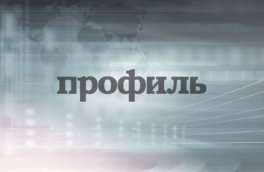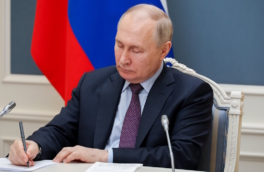А получилась, по мнению Андрея Нещадина, исполнительного директора Экспертного института при РСПП, экономика, в которой концентрация собственности выше, чем в любой другой цивилизованной стране мира. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в своем исследовании информационной прозрачности российских компаний за 2004 год отмечает, что общая капитализация 50 крупнейших обследованных холдингов составляет 95% от капитализации всего фондового рынка РФ. А в докладе общественной организации «Деловая Россия» говорится, что в 2003 году всего 24 компании обеспечили 30,8% объема реализации всей российской промышленности, а вот весь малый бизнес — только 12%. Для сравнения: в Великобритании малый бизнес обеспечивает более 60% объема ВВП. У них основа экономики — мелкий частник, у нас — олигарх.
Этот слой олигархов, в отличие, например, от США, у нас оказался очень небольшим. В исследовании Merrill Lynch & CapGemini за 2005 год сообщается, что сейчас в России 88 тыс. миллионеров, тогда как в Британии их — 418 тыс., в Германии — 760 тыс., в Америке — 2489 тыс.
Что было 15 лет назад — то было. Бессмысленно в миллионный раз перемывать кости Чубайсу-приватизатору. Попробуем разобраться, почему за эти 15 лет серьезного роста числа собственников, по большому счету, не произошло. И мы не приблизились к западной модели построения экономики.
Белые идут — грабят. Красные идут — грабят
Как показало исследование Института комплексных социальных исследований РАН, по прошествии 15 лет у львиной доли россиян весьма однобокое представление о частной собственности. Конечно, в первую очередь это — советское наследие. Но не только.

С Делягиным согласен и Владимир Головнев, сопредседатель общественной общероссийской организации «Деловая Россия»: «У нас в стране до сих пор не сложился институт частной собственности в существенной степени из-за отношения власти к собственности. В Германии кто только у власти не был, вплоть до фашистов, но отношение к частной собственности при любом порядке было незыблемым. Она всегда оставалась основой основ. Только в России было так, что белые идут — грабят, красные идут — грабят. Бизнесмены видят, что с помощью административного ресурса институт частной собственности можно перекраивать. И это не является стимулом для привлечения инвестиций в такую страну».
Государство каждый день напоминает всем нам, что появившаяся у нас частная собственность — это иллюзия. Вот пример. Купил мой муж квартиру. И решил, наивный, что может делать со своей собственной жилплощадью все, что ему заблагорассудится. Например, жену прописать. А государство ему в ответ: «Дудки. Сначала я дождусь, когда придет талончик, что предыдущий хозяин квартиры прописался на новом месте, тогда тебе и разрешу жену прописать». Муж рассвирепел: «Что значит — разрешу?! Я за эти квадратные метры деньги заплатил, это — моя собственность». Государство: «Да чихало я, что собственность. У меня в начале 90-х люди, которые «продали» квартиры новым русским, стали сотнями пропадать. Вот я и ввело такое правило». Муж: «А почему это ты свои проблемы решаешь, ущемляя мои права собственника?» Государство: «А потому что я — государство. А кому не нравится, попрошу выйти вон».
Евгений Гонтмахер, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, полагает, что кардинального изменения отношения населения к институту частной собственности в ближайшее время не ожидается еще и потому, что «понятие «частная собственность» в капиталистическом смысле слова, конечно, ассоциируется с крупным капиталом, с олигархами. Власть, к сожалению, не потрудилась это опровергнуть. У нас уже есть фондовый рынок, любой человек с улицы может прийти и купить акции. Но при этом у нас так построена пропаганда и агитация в стране, особенно в последние годы, что этим поступком ты фактически переступаешь классовую грань и уходишь от людей, которые зарабатывают «честным трудом». Если ты обладаешь акциями, то получаешь прибыль из воздуха, занимаешься спекулятивной деятельностью со всеми вытекающими отсюда советскими ассоциациями. И это уже тем более не соотносится с той моралью, которая у нас распространена, которая консервируется в нашем сознании, — владение паями, предприятиями, наконец».
Дело ЮКОСа легло в эту мораль еще одним кирпичиком. И этот кирпичик недавно мне на голову упал. Сломался замок на входной двери в тамбур. Соседка-учительница закатила нам скандал. Она здесь всю жизнь прожила, замки не ломались. А как понаехали наворовавшие кучу денег — сразу все испортили. Как ей объяснишь, что мы ипотечный кредит взяли, что почти всю зарплату на его погашение отдаем. Честно говоря, после этой истории начала сочувствовать Абрамовичу. Его так вся страна ненавидит.
Из-за того, что быть собственником в нашей стране опасно и непочетно, многие предпочитают не афишировать свои капиталы. По данным того же исследования информационной прозрачности Standard & Poor’s, совокупная доля нераскрытой частной собственности в России составляет более $100 млрд. То есть $100 млрд. принадлежит неизвестно кому. Только 32 из 50 ведущих российских компаний раскрывают сведения о всех своих крупных акционерах.
Медаль за мужество
Если до 2000 года как-то неловко было говорить о сбережениях рядового населения и тем более об управлении этими сбережениями, то с 2000 года ситуация болееменее выправляется. Доходы этого самого населения в России растут.

Основной причиной того, что личные сбережения так и не начали работать в экономике, Елена Матросова, директор Центра макроэкономических исследований «БДО Юникон», считает инфляцию: «У большинства инструментов сбережений, которые доступны населению, — ПИФов, акций, банковских вкладов — не такая уж гарантированная доходность. У людей ощущение незащищенности, они не могут найти такой актив, который был бы привлекательным: с минимальным риском, высокой надежностью и к тому же с доходом, который хотя бы компенсировал рост цен. В стране очень высокая инфляция, и сейчас мы видим, что никаких перспектив по ее эффективному управлению правительство нам предложить не может. Это заставляет людей, используя появившиеся возможности потребительского кредитования, реализовывать свои потребительские планы».
Всем, кто открывает новые фирмы и новое дело, регистрирует новые предприятия, — всем им нужно давать медаль за личное мужество. Между прочим, это президент Владимир Путин сказал.
Потенциальных претендентов на медаль за личное мужество по созданию малого бизнеса, по данным общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», всего 17% трудоспособного населения страны. Хотя готовы к участию в предпринимательстве примерно 70% россиян. Но они отдают себе отчет в том, что медалей не дадут, а бед будет — выше крыши. «Недоступность банковских кредитов, имущественных ресурсов, непроизводственные издержки, фискальная политика государства и общая коррумпированность чиновничьего аппарата — все это в той или иной степени влияет на развитие частной инициативы и формирование класса собственников. Главное сегодня — убрать коррумпированного чиновника из экономики. Пока бизнес знает, что тон задают аппетиты чиновника, никакого развития не будет. Наше общество устало набивать карманы «нечистоплотных дельцов». Устало не доверять государству. Нужны показательные «порки» не только бизнеса, но и недобросовестных чиновников», — заявил «Профилю» Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ».
До 2002 года российские правоохранительные органы стабильно занимали твердое первое место в опросах о наиболее коррумпированных сферах и институтах нашего общества. А вот в 2003 году милицию впервые потеснила власть. У людей складывается ощущение, что власть тотально вовлечена в коррупцию. По данным «Трансперенси Интернешнл-Россия», в 2002 году (самые свежие данные. — «Профиль») валовой объем взяток в России составил 350 млрд. рублей. Цифра была выведена в результате опросов мелкого и среднего бизнеса. Елена Панфилова, директор «Трансперенси Интернешнл-Россия», рассказала, что измеряемый индекс коррупции — это индекс восприятия коррупции. «И то, что в последние годы в России не происходит никакой динамики восприятия — 2,7 пункта в 2004 году, 2,8 — в 2002—2003 годах, — очень плохой показатель. Восприятие зависит в наибольшей степени от того, что говорят о коррупции власти в той или иной стране, от их деклараций. Вывод напрашивается очевидный: общество устало от деклараций. Оно им не верит. Поскольку независимо от того, что слышат граждане России с высоких трибун, на местах, куда ни сунься, везде коррупция, от банального взяточничества до систематического злоупотребления публичными ресурсами», — говорит Панфилова.
Елена Панфилова убеждена, что в стране нет политической воли для противодействия коррупции. Есть только слова, не подкрепленные делом. «Средний и малый бизнес «принял» этот сигнал, — полагает Панфилова. — Совсем недавно были озвучены экспертные оценки, согласно которым изменилась структура вывоза капитала. Если раньше из России убегал олигархический капитал, то теперь побежали капиталы малого и среднего бизнеса».
Другой народ
Почему власть до сих пор не озадачилась тем, чтобы приложить максимум усилий к расширению класса собственников в России, к его культивированию? Возможно, это — инерция прошлого. На которую, кстати, можно много чего списать. Правда, не исключено, что это было просто бездействие властей, лучше всего продемонстрированное на примере пенсионной реформы. Ведь власть палец о палец не ударила, чтобы завлечь людей в частные управляющие компании.
Евгений Гонтмахер полагает, что возможен и другой ответ на этот вопрос: «В нежелании власти целенаправленно стимулировать распространение института частной собственности можно усмотреть даже умысел. Потому что тогда власть получит совершенно другой народ и совершенно новую политическую ситуацию, несовместимую с нынешней конфигурацией власти».
Гонтмахер поясняет, что широкое распространение настоящей частной собственности — это признак зрелости гражданского общества. Если есть критическая масса таких людей, манипулировать ими вряд ли получится. Когда человеку есть что терять, он начинает хотеть стабильности и будет ее защищать. Когда по телевизору показывают, что в компании N Генпрокуратурой проведена выемка документов, а у меня нет акций этой компании, я говорю себе: и правильно, щучить надо этих богатых. Но если у меня дома лежат акции компании N, пусть и на три копейки, то это — уже удар по мне. И мне небезразличны последующие события. Я начинаю чего-то требовать от власти, что-то выяснять. А она этого не любит.
Клиент созрел?
У государства сейчас есть несколько дорожек, по которым можно пойти, чтобы исправить ситуацию, сложившуюся с самым страшным уродцем новорусского капитализма — институтом частной собственности. Можно пойти направо, экспроприировав экспроприаторов. Кстати, если кто-то прицепит этот лозунг на свое знамя — будет поддержан. К сожалению. Впрочем, этот лозунг негоден, и тут даже нечего обсуждать.
Второй путь — инерционный. Но оставить все как есть — тоже неправильно, поскольку в стране увеличивается дифференциация доходов. В 2004 году разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных достигла максимума за все время экономических реформ — 15,3:1. Страна и так поделена на тех, кто чувствует себя ограбленным, и на тех, кто чувствует себя ограбившим.
Президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан напоминает, что российское государство является несомненным родителем крупной частной собственности. «Но отец — отрекся. Эту частную собственность вроде как законнорожденной не признает. И максимум, что обещает сделать, — это уменьшить сроки давности по искам. На мой взгляд, на власти лежит другая обязанность. Раз уж власть силовым образом в 2003 году начала решать проблему компенсации, то есть легитимности частной собственности, тогда теперь на ней лежит ответственность за то, чтобы частная собственность, в том числе и крупная, была признана разными группами населения. Эффективной системы частной собственности не будет до тех пор, пока крупная собственность не докажет, что она приносит положительные результаты различным группам населения. Если крупная частная собственность начнет работать на права человека (трудящегося, потребителя, реализуя его право на здоровую окружающую среду, на образование) и для него это станет очевидно, тогда она будет не только легальна, но и легитимна, то есть признана обществом».
Вот только каким образом заставить крупную собственность начать работать на общество? Делягин предлагает радикальный способ — ввести компенсационный налог. Суть его в следующем: вы, бизнесмены, нанесли ущерб обществу, мы этот ущерб посчитали, вот вам график возмещения. С рассрочкой. «Но это создаст для государства колоссальные проблемы. Тогда оно получит консолидированный народ. С 2003 года власть успешно натравливает народ на олигархов, не сегодняшних, силовых, а на вчерашних — коммерческих. А если раскол между ограбившими и ограбленными будет преодолен, люди почувствуют себя единой нацией. И эта единая нация начнет требовать от власти исполнения своих обязанностей. Так что государство не хочет сокращать пропасть между ограбленными и ограбившими и, более того, этот разрыв старательно увеличивает».

В общем, скупой платит дважды.