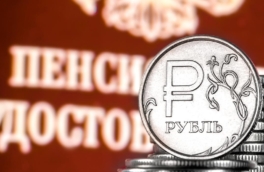- Главная страница
- Статьи
- Время проб и ошибок: как развивался советский подплав в годы Великой Отечественной
Время проб и ошибок: как развивался советский подплав в годы Великой Отечественной
Сегодня Россия обладает современными подводными силами. Но многие их особенности были сформированы во время Великой Отечественной войны. Начав ее с неудач и ошибок, советский подплав усваивал эти уроки и менялся в лучшую сторону, что сыграло важную роль в его дальнейшем развитии.

Грозное, но несовершенное оружие
Первая мировая показала, насколько опасными могут быть подводные лодки. Поэтому в межвоенный период в СССР их строительству был отдан приоритет. В результате к июню 1941-го в строю было 219 субмарин и еще 40 находилось в постройке. Однако почти у половины этих подлодок были низкие тактико-технические характеристики. К примеру, малые лодки типа «М» имели слабое торпедное вооружение и ограниченную автономность, а большие типа «К» не обладали нужной маневренностью и живучестью. Кроме того, общим недостатком всех советских подлодок того времени было отсутствие гидролокаторов, радиолокаторов, приборов управления торпедной стрельбой, а также другого полезного оборудования.
"Ленинец" против кригсмарине: один из лучших походов советского подплава
Не лучше обстояло дело и с вооружением. Как до войны, так и во время ее главным оружием советских подводников были парогазовые торпеды, оставлявшие пузырьковый след, демаскировавший их и позволявший врагу избежать попадания. С учетом того, что в начале Великой Отечественной стрельба еще и велась преимущественно одиночными торпедами, ее результативность была невысока.
Кроме того, существенным недостатком было и то, что подготовка торпедных аппаратов к стрельбе занимала много времени. Так, на открытие их передних крышек и заполнение аппаратов водой уходило до пяти минут. Поэтому в начале войны, чтобы быть готовыми к внезапной встрече с противником, советские лодки ходили с открытыми крышками и «мокрыми» торпедами, что приводило к их коррозии. А во время шторма торпеды и вовсе могли вылетать из аппаратов.
Ситуация с техническим несовершенством подлодок усугублялась недостатками боевой подготовки экипажей. Одним из них была так называемая сезонность: подготовка велась весной–летом с перерывами на зиму. И хотя с 1940-го командование ВМФ предписало проводить тренировки в любое время года и в любой обстановке, на флотах все еще предпочитали готовить подводников при благоприятных погодных условиях. Такой подход оборачивался спешкой и формализмом – за несколько месяцев экипажи лодок должны были отработать чуть ли не весь годовой курс.
Жизнь в "трубе": бытовые условия советских подводников во время войны
Серьезным недостатком довоенной подготовки подводников была и чрезмерная опека командиров лодок, которую уже после войны в Главном штабе ВМФ СССР назвали «едва ли не самым большим тормозом» в обучении командного состава подплава. Из-за того, что различное начальство зачастую без всякой необходимости вмешивалось в действия командиров, у них развивались безынициативность и нерешительность.
После гибели в 1939–1940 годах двух подлодок на Северном флоте боевая подготовка стала проводиться с большими ограничениями. К примеру, запрещалось подныривание под идущий корабль, что лишало подводников опыта не только уклонения от таранного удара, но и прорыва противолодочного экрана при атаке охраняемой цели.
И хотя перед самой войной началась энергичная борьба с подобными недостатками, изначально в советском флоте оказалось мало подлодок, способных эффективно решать боевые задачи, поскольку многие командиры не проявляли подлинного рвения и настойчивости в поиске и уничтожении врага.
Ошибки в планировании
До войны советский флот выбрал правильное направление в своем развитии, но без ошибок все же не обошлось. Подлодки и авиация были верно определены как силы, способные, взаимодействуя друг с другом, успешно вести борьбу с врагом, оказывая давление на его коммуникации. Однако развитию морской воздушной разведки, особенно важной для подлодок, внимания уделено не было, что сделало ее слабым местом ВМФ СССР.

Матросы Северного флота на палубе подводной лодки готовят минное вооружение
Николай Веринчук/РИА НовостиСоветские самолеты-разведчики были тихоходны, с малым радиусом действия и не имели надежных средств связи и наблюдения. Кроме того, они часто использовались в интересах армии, а не флота. Это привело к тому, что подлодки, не обеспеченные хорошей разведкой, действовали вслепую, так как продолжительное время на театрах военных действий (ТВД) не были выявлены ни маршруты вражеских конвоев, ни районы минных постановок, ни вражеская система ПЛО в целом.
Однако перечисленные недостатки в подготовке, техническом развитии и вооружении советского подплава несильно выделяли его на фоне флотов других стран, так как перед войной в той или иной степени ими страдали практически все ее будущие участники. К примеру, в 1939-м, в первые месяцы боевых действий, вскрылась масса проблем, присущих британскому подплаву, что привело в 1940-м к реформе адмирала Хортона. В ее рамках была полностью перестроена система отбора командных кадров и боевой подготовки, а также тактика британских субмарин.
Но для СССР ситуация усугублялась тем, что он допустил важный стратегический просчет, размещая подводные силы. В результате на закрытых театрах военных действий оказались 112 лодок: Балтика – 65, Черное море – 47. После начала войны они были заблокированы и понесли большие потери, не сумев оказать нужного давления на вражеские морские коммуникации. В то же время такие открытые ТВД, как Арктика, ставшие во время войны очень важными для СССР, были недооценены. Это привело к тому, что Северный флот в июне 1941-го имел в своем составе лишь 15 лодок. Численность его подводных сил удалось увеличить лишь ко второй половине войны за счет перевода лодок с других ТВД, а также субмарин, переданных союзниками.
Впитывая опыт войны
Как и флоты других стран, ВМФ СССР старался избавиться от довоенных болезней, вскрывшихся благодаря получению обширного боевого опыта. Этот опыт изучался и становился мотивом для внесения изменений в действиях на море с учетом того, что подлодки для Советского Союза стали ключевым инструментом борьбы с противником на море.
Загадка смерти Фисановича: как погиб известный советский подводник
Главным проводником изменений в тактике стал Северный флот, где были опробованы в бою различные нововведения. Например, отказ от довоенного позиционного метода в пользу крейсерства. Если ранее подлодка, заняв позицию, просто ждала встречи с противником, то теперь она крейсировала в границах отведенного ей района. Причиной появления нового метода стала проблема с воздушной разведкой – из-за нее подводникам самим приходилось искать врага.
Крейсерство развивало в командирах лодок инициативность, а своевременное обеспечение их разведданными давало возможность принимать дерзкие решения. Примером здесь служит ряд проникновений подлодок СФ в залив Лиинахамари в 1941-м или прорыв в Данцигскую бухту балтийской подлодки «Щ-407» в декабре 1944-го, завершившийся потоплением крупного транспорта у базы немецких ВМС в Готенхафене.
Одновременно с этим на Северном флоте продолжали совершенствовать тактику, в 1943 году впервые опробовав метод групповых действий подлодок. Увы, эксперимент завершился неудачей из-за трудностей поддержания связи между лодками. Его развитием в 1944-м стало внедрение тактики «нависающей завесы», когда группа лодок занимала позиции вдоль побережья и после получения сообщения о вражеском конвое каждая из них оставляла позицию, выходя на его перехват. Также в 1944-м в Арктике предпринимались попытки проведения совместных действий подлодок, эсминцев и авиации.
Вносились изменения и в тактику торпедных атак. В сентябре 1941-го, познакомившись с британским методом торпедной стрельбы, советские подводники стали практиковать залпы несколькими торпедами с временными интервалами, повышавшими шансы поразить цель. Кроме того, предпринимались попытки освоить и метод бесперископной атаки, когда стрельба велась с глубины по данным акустика. Но в этом случае успеха удалось достигнуть лишь однажды – 19 августа 1944-го подлодкой «М-201» был потоплен немецкий сторожевик.
Во время войны повышалось и техническое оснащение советского подплава. С 1943-го на лодках стали устанавливать ленд-лизовские британские гидролокаторы, получившие у нас название «Дракон-129» и очень пригодившиеся подводникам-балтийцам в конце войны. К тому моменту советские лодки также получили новую перископную радиоантенну, позволявшую принимать сообщения на небольшой глубине. Одновременно с этим велись попытки обеспечить подплав новым торпедным вооружением. Еще до войны в СССР начались разработки собственной электроторпеды, принятой на вооружение в 1942-м как ЭТ-80 и неконтактного модуля взрывателя НВС. Однако эти новинки не получили широкого применения, так как в процессе их эксплуатации был выявлен ряд недостатков. В 1944-м на Балтике даже возник небольшой «торпедный кризис» из-за того, что некоторые лодки фиксировали взрывы торпед с НВС сразу после залпа. С переменным успехом шли попытки создать собственную самонаводящуюся торпеду. Кризис в работе над ней был преодолен лишь в 1944-м, после изучения немецких торпед типа Т-5, обнаруженных на поднятой трофейной лодке U-250. Но работающие образцы подобного вооружения в СССР удалось получить лишь вскоре после окончания войны.
Любопытно, что в разработке технологий для подлодок советские ученые не очень отставали от зарубежных коллег. Так, созданные ими во время войны приборы для управления торпедной стрельбой по характеристикам не уступали иностранным образцам. Но проблема крылась в миниатюризации и адаптации – к примеру, британские аналоги ПУТСов были и меньше, и легче, что позволяло устанавливать их на любые типы лодок. В результате помимо собственных разработок знакомство с технологиями союзников, а также изучение трофеев способствовало техническому развитию советского флота, позволив ему после войны выйти на высокий уровень в строительстве подлодок, их вооружении и по системам жизнеобеспечения для экипажей, в том числе и на атомных субмаринах.
В целом опыт Великой Отечественной оказал большое влияние на дальнейшее развитие советских подводных сил. Даже традиция выдавать подводникам порции виноградного вина возникла в ту пору, поскольку именно во время войны было замечено, что оно, в отличие от других напитков (например, плодового вина), хорошо стимулирует восстановление аппетита в море.
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".