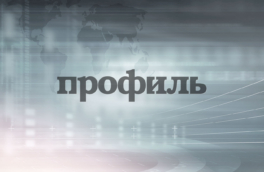В эпоху молодого Пушкина и стареющего Карамзина прототипы будущих талонов и хлебных карточек официально называли «Свидетельствами для покупки из магазинов муки». Впрочем, и под магазинами тогда понимали совсем не то, что сегодня. Что же это было и зачем император Александр I ввел в 1817 году талоны для жителей Петербурга, расскажет «Профиль».
Призрак голодных бунтов
«Наконец обращаюсь к неимоверной цене на говядину…», – писал 12 ноября 1817 года русский царь губернатору Санкт-Петербурга. Письмо было длинным и непривычно эмоциональным для обычно сухой официальной корреспонденции императора. Вчерашнему победителю Наполеона, буквально на полпути с Венского на Аахенский конгресс, где он вершил судьбы Европы, наверняка было почти обидно писать о какой-то говядине. Блестящий самодержец, прозванный современниками Благословенным, отставив изящные французские обороты, нудно подсчитывал, что в текущем году в Петербург попало быков вроде бы на 6965 меньше, чем в предыдущем, 1816 году.
«Но вы же объясняете напротив, что, по донесениям из губерний, прогон скота был в обыкновенном количестве; следовательно, скрываться тут должно какое-то злоупотребление, которое надлежало вам обнаружить…», – сетовал царь, обращаясь к Сергею Вязмитинову, министру полиции и военному генерал-губернатору Петербурга. Сегодня у нас этот герой войн с Наполеоном прочно забыт, ведь генерал от инфантерии Вязмитинов занимался не героическими атаками, а нудной и скучной логистикой, обеспечением и администрированием тыла воюющей армии.
Впрочем, в биографии самого Сергея Кузьмича Вязмитинова атак хватало – в молодости, в эпоху Русско-турецких войн Екатерины II, он не раз командовал гренадерами и егерями при штурмах османских крепостей. Именно Вязмитинов первым в русской истории занял должность военного министра. Это случилось еще в 1802 году, а в сентябре 1812-го, в разгар войны с Наполеоном, когда Петербурга достигла весть о падении Москвы, именно Вязмитинов возглавил уже весь кабинет министров Российской империи.
И вот на исходе осени 1817 года царь писал своему опытнейшему администратору: «Приложите все попечение ваше, дабы цены на жизненные предметы понизились и чтобы продовольствие столицы вошло в лучшее положение, нежели оное ныне находится».
Причины для беспокойства были весомы – к октябрю 1817-го цены на продукты в столице империи по сравнению с обычными в это время года вдруг взлетели в полтора раза. Резкий рост стал совершенно неожиданным не только для обывателей, но и для властей, городских и высших. Ни в 1817 году, ни в предыдущие несколько лет недородов и неурожаев в России замечено не было. Наоборот, урожай текущего года считался хорошим – проблем со снабжением Петербурга никто не ожидал.
На первый взгляд полуторный рост цен за осень не покажется страшным – неприятно, но вроде бы совсем не фатально. Однако царь и его лучшие министры, опытные администраторы (другие не разбили бы Наполеона) хорошо представляли систему продовольственного снабжения Петербурга – в ту эпоху она была полностью завязана на сеть волжско-балтийских каналов.
Надвигающиеся холода блокировали те каналы льдом, и на фоне полуторного роста цен это грозило столице очень тяжелой зимой. Осеннее вздорожание свидетельствовало о явном дефиците продуктов в городе, а лед на каналах означал, что до весны массового подвоза уже не будет. И перед царем вставал призрак если не голодных смертей, то уж точно голодных бунтов в главном городе страны.
Каналы против Наполеона
Санкт-Петербург в 1817 году был одним из крупнейших городов Европы, отставая по числу населения только от Лондона, Парижа и Стамбула. В столице России тогда обитало 370–400 тысяч человек, в старой столице, Москве, – не более 200 тысяч, тогда как остальные города под скипетром Александра I насчитывали по нескольку десятков тысяч жителей, не более.
Столичный град на Неве для той эпохи был огромным мегаполисом, к тому же расположенным в местности, не самой благоприятной для земледелия, т. е. живущим на привозном продовольствии, доставляемом из других губерний России.
До эпохи железных дорог оставались еще десятилетия, и к началу XIX века большинство грузов в центре России перемещалось по системе каналов. Именно они соединяли мегаполис и крупнейший российский порт Петербург с регионами Поволжья и Урала. Первую нитку каналов, Вышневолоцкий водный путь, построили еще при Петре I, а буквально накануне нашествия Наполеона, в 1811 году, ударными темпами закончили сооружение аж двух водных систем – сложные цепочки рек, каналов и шлюзов надежно соединили Балтику с Волгой. С апреля по октябрь три системы каналов, каждый из которых обслуживали десятки тысяч бурлаков, позволяли доставлять в Петербург гигантские объемы грузов со всей европейской России.
При этом сухопутные трассы в деле грузовых перевозок в ту эпоху играли вспомогательную роль. Во‑первых, в России тогда еще не было дорог с твердым покрытием, весной и осенью из-за распутицы грунтовые дороги становились абсолютно непроходимыми для грузов. Во‑вторых, гужевой транспорт, телеги и сани, в деле перемещения больших грузов на большие расстояния был чрезвычайно дорог, серьезно уступая речному транспорту. Одна малая барка (самое распространенное судно на каналах) и дюжина бурлаков перемещали 3 тысячи пудов груза. На грунтовой дороге для этого требовалось не менее сотни телег, столько же людей и минимум сотня лошадей.
Таким образом, 150 тысяч бурлаков и три системы каналов – Вышневолоцкая, Тихвинская и Мариинская, – соединявшие Петербург с Россией при Александре I, ежегодно с успехом заменяли свыше миллиона телег на сухопутных дорогах! Именно они превращали столицу России в крупнейший торговый порт, они же надежно снабжали мегаполис на Неве привозным продовольствием.
Системы каналов работали даже в разгар войны 1812 года, что, кстати, не учел Наполеон при подготовке своего вторжения. Даже когда французы заняли Москву, основа русской логистики не пострадала: в тот военный год по каналам в Петербург пришло с грузами из Поволжья почти 6 тысяч речных судов. Довоенный объем перевозок снизился всего на 3%.
Словом, водные системы каналов в ту эпоху работали надежно и эффективно. Но имели один неотъемлемый и стратегический недостаток – как минимум с ноября по апрель напрочь замирали, скованные льдом. И всё, что недовезли в город на Неве к началу ледостава, становилось практически недоступным до разгара следующей весны. Столичный мегаполис был столь велик и многолюден, что любой подвоз товаров и продовольствия на санях и телегах играл для его снабжения лишь вспомогательную роль.

В XIX веке караваны с русским зерном шли в Европу по земле и по воде, и этим хлебом кормили даже Францию – недавнего агрессора и неудачного захватчика русских земель.
Василий Тимм / Grafika / Fotodom 03«Насмерть замерзший» год
Удивительно для нас – а для царя Александра I это было пугающе удивительно, – что за летнюю навигацию 1817 года в Петербург доставили различного продовольствия, прежде всего зерна, значительно больше, чем в предыдущие годы. В разы больше!
Но почти всё это зерно не задержалось в столице империи, его выгодно, с огромными прибылями, продали на Запад – не зря Петербург был крупнейшим торговым портом страны. В ту эпоху экспорт хлеба в Европу из царской России, в сущности, только делал первые шаги – высшая власть его не регулировала и, как показал 1817 год, даже не отслеживала. Лишь таможня в порту Петербурга увлеченно считала внушительный рост денежных поступлений в казну от хлебных экспортеров.
При этом имперская власть отнюдь не была глупа или легкомысленна – царя Александра I вообще можно обвинять в чем угодно, кроме отсутствия ума. Просто с такой проблемой на Руси прежде никогда не сталкивались – «невидимая рука рынка» на ровном месте создала в столице дефицит основного продукта питания, хлеба!
Коммерческий экспорт зерновых из России в Европу в заметных объемах начался только при Екатерине II. И лишь c началом XIX века разные «хлеба», прежде всего пшеница, стали занимать верхние строчки в балансе русского экспорта. Особенно это стало заметно по завершении войн с Наполеоном – резкому росту продаж хлеба на экспорт способствовало не только прекращение боев и вооруженных блокад, но и целая череда неурожайных лет на западе европейского континента.
Современные историки Европы не зря именуют 1816 год «годом без лета» – в августе на берегах Рейна были зафиксированы ночные заморозки, а в Швейцарии падал снег. По подсчетам Парижской обсерватории, за то лето в центре Франции было всего 13 дней хорошей погоды. Лето с аномально низкими температурами в тот год было и на Атлантическом побережье США – в народной памяти Северной Америки 1816-й запомнился как «тысяча восемьсот насмерть замерзший».
Причины такого природного катаклизма пытались объяснять массированным выбросом в атмосферу пепла от двух проснувшихся вулканов – в 1814-м на Филиппинах и в 1815-м в Индонезии действительно зафиксированы крупнейшие на протяжении столетий извержения. Впрочем, другие историки отмечают целый цикл похолодания на западе Европы в период 1812–1818 годов, вулканическое воздействие на атмосферу лишь усугубило его.
Вне зависимости от причин второе десятилетие XIX века, сразу по окончании Наполеоновских войн, в истории большинства западноевропейских стран стало последним периодом массового и серьезного голода в мирное время. С 1813-го по 1817 год голодные смерти зафиксированы повсеместно, от Норвегии до Швейцарии. Даже там, где голод не убивал, отмечен резкий рост цен на продовольствие и, соответственно, не менее взрывной спрос на зарубежный хлеб.
При этом огромная континентальная Россия с ее рискованным земледелием, находясь вдали от атлантических и тропических атмосферных пертурбаций, как раз в те годы не имела проблем с урожаем. Свойственные Руси регулярные недороды отмечены в 1813 и 1820 годах, но в промежутке урожайность была хорошей или средней. Год 1816‑й был даже чуть теплее, чем обычно, и это на фоне резкого похолодания в США, чей сельскохозяйственный экспорт уже тогда серьезно конкурировал с российским на европейских рынках. Словом, к 1817 году Россия оказалась, в сущности, единственным стратегическим поставщиком продовольствия на Запад.

Отечественные агротехнологии XIX века были на самом примитивном уровне, что не мешало России быть главным поставщиком главного продукта.
Alexei Venetsianov / Heritage Image Partnership Ltd / Vostock PhotoНевидимая рука рынка
В 1814 году, когда русские армии завершили борьбу с Наполеоном, из России продали в Европу чуть более миллиона пудов «хлебов» – этим общим термином в ту эпоху именовали пшеницу, рожь, ячмень и овес. В следующем, 1815-м, хлебный экспорт немного вырос, до 1,2 миллиона пудов. Однако в связи с ростом цен на продукты в Западной Европе прибыли российских хлеботорговцев выросли более чем на треть.
И в 1816 году экспорт хлеба почти удвоился – вывезли более 2 миллионов пудов. Прибыль же в связи с продолжающимся ростом цен в Европе выросла в 2,5 раза. И вот тут прорвало – в следующем году в России все, кто мог, кинулись продавать хлеб на Запад. К тому же именно в 1817-м стала закупать хлеб богатая Великобритания. Ранее она импортировала зерна не более 10% от своего потребления, но в том году из-за затянувшихся неурожаев четверть зерна на британском рынке была привозной, и в основном из России.
Вообще-то излишков товарного хлеба в Российской империи было немного – большинство крестьян едва кормили сами себя, поставляя на рынок мизер. Однако великая страна с разнообразными регионами позволяла часть этих излишков собрать и продать, пользуясь ранее невиданным великолепием конъюнктуры. Известно, что в 1817 году даже при торговле поволжским хлебом через порт северного Архангельска при всей высокой себестоимости такой операции купцы в течение полугода получали 74 рубля чистой прибыли на каждую сотню вложенных. При более удобной и дешевой торговле через порт Петербурга норма прибыли хлеботорговцев была еще выше.
В итоге за навигацию 1817 года из России на Запад продали свыше 5 миллионов пудов хлеба – почти в 5 раз больше, чем в 1814 или 1815 годах. Никогда прежде в истории России столько хлеба не вывозили. Притом денежная выручка из-за роста европейских цен была еще более внушительной, даже опережая рост объемов. За тот год хлеботорговцы выручили в Европе почти 142 миллиона рублей – увеличение прибылей почти в 9 раз, а по сравнению с 1814-м – едва ли не на порядок!
Понятно, что при таких прибылях стремились «толкнуть» на Запад как можно больше. В предыдущие годы прибыль от вывоза хлеба за границу составляла порядка 10% от всей стоимости русского экспорта, но в 1817 году она перевалила за половину. При этом изменилось и содержание хлебного экспорта – если ранее в нем доминировала пшеница, то в 1817-м большую долю составила рожь. По сравнению с предыдущим годом вывоз пшеницы вырос в полтора раза, а ржи – почти в 5 раз! Ведь в сытые годы рынок Европы предпочитал пшеницу, но по итогам затянувшихся неурожаев глотал все, что было, не брезгуя черным хлебом.
Однако именно рожь в ту эпоху была основой питания русских крестьян и мещан. И вот в эту основу впервые в истории вмешалась невидимая рука рынка. Для России подобная ситуация с массовым экспортом товарной ржи была явлением необычным и непривычным.
До осени 1817 года высшие власти вообще никак не реагировали на ситуацию, складывающуюся на хлебном рынке, ведь внешне все выглядело благополучно и даже прекрасно. Урожай был неплох, голод из-за недорода городам и селам не грозил, а резко выросшие экспортные прибыли лишь радовали царскую казну, обремененную большими долгами по итогам Наполеоновских войн.
Ситуация в столичном регионе до осени 1817-го тоже не беспокоила власти – городские и имперские чиновники прекрасно знали, что в мегаполис на Неве хлеба по трем системам каналов привезли даже больше, чем в иные годы. Что продали еще больше и в угаре погони за прибылью продали даже то, что раньше не продавали и оставляли для внутреннего рынка, в Петербурге поняли не сразу…
Хлеб всему голова
Вероятно, первые подозрения стали появляться к исходу лета. Обычно цены на куль (стандартный мешок в 9 пудов) ржаной муки на рынке Петербурга в летние месяцы составляли 18–19 рублей. Но все лето 1817-го цены на рожь держались на непривычно высоком уровне – сначала 24, потом 27 рублей за куль муки.
Работала та самая невидимая рука рынка – системы каналов трудились на пределе возможностей, но огромную массу привезенного в город хлеба тут же из-за аномально высоких цен на Западе отправляли в порт, грузить на торговые корабли. Продавать за рубеж было куда выгоднее, чем на внутреннем рынке, соответственно, в лавки и на базары Петербурга хлеба попадало меньше, внутренние цены росли вслед за экспортными.
К октябрю 1817 года цена на куль ржаной муки в столице поднялась до невиданных 29 рублей, тогда как в предыдущие годы колебалась около двадцати. Для сравнения: в Саратове, в хлебном Поволжье, тот же куль ржаной муки в октябре 1817-го стоил 4 рубля.
Вздорожавший в Петербурге хлеб тянул за собой вверх и цены на все иные продукты, тоже главным образом привозные. Полуторный рост привычных цен может показаться неопасным, но, повторим, в ту эпоху ржаная мука – это основа питания, основа жизни большинства населения. Это сегодня, по данным статистики, средний гражданин РФ потребляет в год не более 50 кг хлеба (кстати, еще в 90‑е годы эта норма достигала 66 кг). Но два столетия назад средний человек в столице России, красивом имперском Петербурге с его гранитными набережными и блестящими дворцами, поедал за год более 160 кг хлеба. Хлеб в прямом смысле был всему голова – служил основой питания, другие продукты и блюда лишь прилагались к нему.
При этом для большинства населения, для городских низов речь идет именно о ржаном хлебе. Ржаной хлеб был не просто привычной, традиционной едой русского человека – при производстве хлебного каравая именно ржаная мука дает наибольший припек, превышение массы готового хлеба по сравнению с массой исходно употребленной муки. В таких условиях цена на куль ржаной «мучицы» была важнейшим показателем, а ее полуторный рост кардинально сказывался на доходах и питании большинства петербуржцев той эпохи.
Ведь 90% населения имперской столицы в 1817 году – это отнюдь не юный дворянин Саша Пушкин и его приятели, вчерашние лицеисты. Дворянство и купечество всегда составляло не более десятой части обитателей Петербурга, все остальные – это разночинцы, мещане, цеховые, дворовые люди и прочие из непривилегированных сословий.
В городе на Неве жила огромная масса такого черного люда, совершенно незаметного для золотого века русской поэзии, – свыше четверти миллиона ремесленников, прислуги, наемных рабочих. Все эти незаметные кучеры, прачки и пресловутые кухарки, которым предстоит еще целый век даже не думать «учиться управлять государством». Впрочем, тогда еще даже верхи империи только учились им управлять – по крайней мере, управлять государством в условиях неожиданно сложившегося и показавшего свою подспудную мощь мирового рынка...
Продолжение следует.