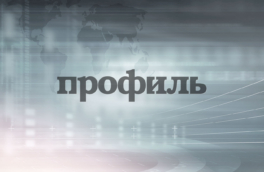— Ваш «Борис Годунов» безжалостен ко всему российскому обществу, в спектакле все персонажи одинаково преступны — возможно, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. По-вашему, мы в тупике?
— Не знаю, как у нас. Но Пушкин — не про тупики, точно. Про что-то другое. Про путь. Без конца. Про поток времени и времен. Борис Годунов — силой пушкинского слова остается в нашей истории убийцей ребенка, хотя неизвестно точно, убивал он его или нет. Но убийство не становится приговором ему. Он грешен, но сложен. Такова жизнь. Мне кажется, основной посыл «Бориса Годунова» в том, что судить нельзя, и тот, кто сегодня кажется положительным человеком, в контексте истории становится злодеем, а тот, кто кажется злодеем сегодня, в контексте истории оказывается сложной и неоднозначной фигурой. Есть неумолимый поток времени и истории, который может поменять все на 180 градусов, и в этом потоке все становится относительным, в том числе и категории добра и зла — хотя эти категории неотменяемы, и наказание все равно приходит.

— Хорошо, давайте не будем о конкретных людях — поговорим о силе власти. Насколько, по вашему мнению, человек у власти становится от нее зависим?
— Я не знаю, можно ли у власти остаться самим собой. Думаю, человек, добирающийся до власти, всегда неординарен, каким бы серым он ни казался. К власти приходят люди, изначально обладающие определенным набором качеств. Власть и человек находят друг друга. Как влюбленные. Бесполезно рассуждать, кто кого завоюет: человек — власть, или власть — человека. Они полюбили друг друга, они сосуществуют, им друг с другом хорошо. Дальше мы можем за этим наблюдать, смотреть, дает ли это созидательные или разрушительные плоды для окружающих, позволяет ли власть оставаться человеку душевно здоровым.
— В таком случае можно говорить о романе правителя и его народа. На ваш взгляд, наша вечная оппозиция «власть и народ», противопоставление «верха» и низа» — это чисто российское явление или некое неотъемлемое свойство власти?
— Мне кажется, рассуждения о каком-то особом состоянии, об отличиях в этих вещах в отношении государств, России и Запада, бессмысленны. Везде примерно одно и то же, вопрос в степени развитости тех или иных институтов и самосознания, а не системных, структурных различий. Россия — европейская цивилизация. Россия так же ущербна без Европы, как Европа без России. Поэтому дико представлять Россию отрезанной от Европы, ставшей членом семьи исключительно азиатских стран и народов. Я думаю, что эта пьеса универсальна по отношению к любым формациям и странам. Неслучайно часто слышишь, что пушкинский «Годунов» близок шекспировским произведениям. Как Шекспира со всеми его пьесами про власть и взаимоотношения человека и власти можно легко перенести на русскую почву, так и пушкинскую историю — на европейскую.

— В начале спектакля есть момент, когда в полной тишине на пустой сцене появляется титр «Народ терпеливо ожидает, когда ему скажут, что делать дальше. Народ — тупое быдло». Очевидно, что быдлом зрителю в зале предлагается почувствовать себя. С вашей стороны это издевка?
— Каждый волен истолковывать любой момент, как он хочет. Для меня это скорее театральный момент, нежели политический, хотя он и прикрывается неким социальным посылом. Ведь я пришел в «Ленком» — театр, который всегда славился не только художественностью, но и зрелищностью. Здесь зритель привычен к предельной насыщенности действия и времени. Поэтому здесь это не столько социальная, сколько чисто театральная провокация — на паузу, на бездействие, на отсутствие всякой информации со сцены и на возможную реакцию зала театра, который еще не привык к подобного рода ходам.
— После премьеры «Карамазовых» в прошлом году вы говорили, что в своих спектаклях ставите не политические, а эстетические вопросы. Но немногим позже, в другом интервью, назвали свой театр политическим. Так какой театр вы делаете?
— Ну да, я иногда говорю противоположные вещи, как и все мы. Слушайте, это даже с государственными мужами случается, что уж ко мне, несчастному, цепляться.
— Тогда скажите, как чувствуете в этот момент — каким театром вы занимаетесь?
— Даже «Борис Годунов» в большей степени про эстетику — прежде всего театральную — чем про политику. Про политику там минимально, и если вы обратили внимание, она дана в виде очевидных плоских знаков: Березовский, Сталин, шапка Мономаха, проезд президентского кортежа. Причем они специально сделаны нарочито прямолинейно. Они обозначают возможный вектор развития этого спектакля. А сам он — про паузы, отсутствие игры, условность, другой способ монтажа сцен, и даже отчасти про невозможность политического театра сегодня — того театра, каким когда-то была Таганка.
— Почему?
— Жизнь усложнилась, к ней более не применимы режимы черного и белого, белого и красного, ее нельзя разложить на атомы с помощью простых плакатных вещей, к которым неизбежно сводится политический театр. А как только театр уходит от плаката, он становится просто сложным театром про жизнь. Или про эстетику. Сегодня мы не рассматриваем происходящее с точки зрения очевидных формул, как в советское время: надо отменить социализм, ввести капитализм, и все будет хорошо. Все оказалось намного сложнее, и поэтому непонятно, к чему призывать с помощью политического театра. Кроме того, политический театр всегда романтичен. Он исходит из наличия идеалов. А эпоха романтики и идеалов, на мой взгляд, ушла. Может, когда-то вернется, но сейчас — ушла.
— И тем не менее ваши спектакли, как мне кажется, считываются если не как призыв к действию, но как некий анализ происходящего.
— Надеюсь, более сложный анализ, чем какая-то однозначная формула. По крайней мере, «Борис Годунов» связан с желанием отстраниться от сиюминутного выбора. В конце есть важный момент, когда стреляют в сына Годунова — и в эту секунду совершенно непонятно, зачем все это, куда мы движемся, нужно ли вообще куда-то двигаться, что-то менять, и как менять. Какой-то тупик — в смысле простых решений. Простых оценок. И если в «Идеальном муже» была какая-то веселая драка с окружающей реальностью, то здесь — некий набор фактов без всяких оценок, что для меня важно. Политический театр в том виде, в котором он нам являлся в советское время и в перестроечную пору, мертв. Сегодня театр как отражение окружающей реальности переживает сложную трансформацию, ищет взаимоотношения с этой реальностью — политической, социальной, психологической. Театр трансформируется, трансформируется его эстетика, его язык, и мы тому свидетели. И я скажу крамольную вещь: полагаю, что русский театр в этом отношении сегодня один из передовых европейских театров. В передовой его части. В России происходят очень интересные театральные процессы, дай нам бог их сохранить. И если советское кино сейчас воспринимается как затонувшая Атлантида, то русский театр не только не затонул, а развивается, и очень мощно. По многим позициям он сегодня догнал европейский, и даже начинает медленно опережать — по способу мышления, авангардности, новизне эстетических приемов.

— То есть разговоры о косности русского театра необоснованны?
— Они неизбежно должны вестись, это постоянный процесс. Возникает новое, одновременно что-то устаревает. То, что устаревает, цепляется за жизнь, старается подмять под себя новое. А новое тоже не всегда адекватно. Прекрасно, что идут споры, яростная борьба, что есть и старое, и новое, и что в своем столкновении они не убивают друг друга. Вспомним наш прекрасный Серебряный век, когда бесконечное множество талантливых людей, принадлежавших к разным течениям, друг друга грызли, поносили, дрались, но все это способствовало расцвету литературы. Так вот русский театр сегодня существует в режиме Серебряного века. Драки и споры зачастую болезненны, у кого-то они вызывают инфаркты, у кого-то раннюю седину, но они плодотворны. В какой-то момент мы оказались в положении послевоенной Германии или Японии: мы понимали, что живем на обломках, что отстали от передовых стран в эстетике и технологии, и в эту секунду мы не расквасились, а стали стремительно глотать новые знания, приглашать, смотреть. Сегодня ни в одном европейском городе нет такого количества замечательных театральных фестивалей и первоклассных гастролей, сколько у нас в Москве, и этим надо гордиться. Все кризисы происходят от самодовольства и самоуспокоенности. А русский театр не варился в собственном соку самодовольства и наверстал очень многое. Мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда думаем, что еще не очень хороши, а на самом деле уже многого достигли. Надо сохранять в себе это ощущение, что мы чего-то не умеем. Собственно, это важно в любой профессии и в целом в театральном процессе.
— Вам сейчас комфортно в российской театральной среде?
— Да. Мне некомфортно, когда в эту сугубо театральную среду вмешиваются политические, конъюнктурные процессы. Когда прибегают какие-то непонятные активисты и начинают вопить какие-то глупости; когда искусство пытаются использовать в идеологических целях. Мне кажется, в этот момент начинается смерть искусства, поэтому важно подобного не допускать. Слава богу, эта зараза не пролезает активно в театр благодаря многим театральным людям, мудрым старым мастерам вроде того же Табакова и Захарова, которые понимают, что это недопустимо.
— Вы как-то говорили, что театр должен разделять, причинять боль. А вы сами испытываете боль, работая над спектаклем?
— В спектакле есть разные этапы, через которые ты обязательно проходишь: ненависти к материалу, ненависти к актерам, к себе, к работе, потом, наоборот, воодушевления, подъема, которые перемежаются апатией и нежеланием приходить на репетиции. А самые счастливые минуты в спектакле — это не зрительский успех, не аплодисменты, а момент, когда ты видишь, что разрозненные части соединяются в единое целое и начинают жить собственной, независимой от тебя жизнью. Так, наверное, ощущает себя хирург, который видит, как пальцы пришитой к телу руки начинают шевелиться. А после выпуска спектакля начинается отходняк и депрессия.
— Если вернуться к вашей режиссуре — какие задачи с точки зрения эстетики и театральности вы сейчас для себя ставите?
— Я никогда не загадываю, каждый раз я просто пускаюсь в плавание. Это творчество, путь с неизвестным итогом, и в этом весь кайф. Самое ужасное, когда ты в профессии доходишь до состояния, когда точно знаешь, каков будет результат, все просчитываешь, все умеешь. Рисковать всегда интересней, но и опасней. И чем больше успех, тем страшнее снова рисковать, но это единственный путь живой жизни в профессии. Поэтому я просто стараюсь сделать так, чтобы в каждой новой работе для меня была некая зона исследования, пространство, в которое я еще не ходил, делать так, чтобы я не знал, как справиться с этим произведением, как работать с этими актерами, чем все кончится. Вот это важно.