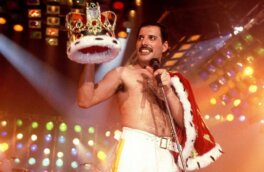Архивная публикация 2002 года: "Край терпения"
У русского народа замечательная "психологическая", если так можно выразиться, репутация: не только мы сами, но и весь мир вот уже которое столетие восхищен нашим легендарным долготерпением, которое воспели Некрасов и Толстой, Тургенев и Достоевский. Право, каждый раз, как слышу про "долготерпение", испытываю род смущения, словно начинающий жулик.И Будда терпит лишь до трех раз.
Японская пословица
Черновик великой державы
В основе этой репутации, как часто случается с Россией, лежит недоразумение. Берется, к примеру, сумма бед и несчастий, которые пережила страна в ХХ, предположим, веке, и сопоставляется с тем несомненным фактом, что к концу кровавого столетия одна шестая часть суши выглядит не дотла выжженной пустыней, как могла бы, а все-таки не совсем заброшенным пустырем, в отдельных углах которого жизнь продолжается -- порой даже слишком бурно. Стало быть, делается тут же оптимистический вывод: источник сил народных не иссяк, народ вытерпел все и еще не такое способен вытерпеть. Ни один другой народ, добавляется обычно сразу же с "законной гордостью", такого ужаса не вынес бы, только наш.
Возражать на это трудно, потому что сравнивать не с чем -- ни один другой народ в нашем столетии и в самом деле ничего подобного не переживал. Как бы повели себя, например, гордые британцы, ежели бы у них сразу после Первой мировой случились подряд революция, гражданская война, голод, коллективизация, индустриализация, репрессии, потом снова война, -- никто не знает. Почему-то считается, что повели бы они себя плохо, то есть вымерли бы все. И любые европейцы вымерли бы, не говоря уж о неженках-американцах.
Вся штука в том, что с ними почему-то не произошло таких несчастий, как с нами, хотя исторический, а не календарный ХХ век они начинали там же, где и мы, -- в окопах Первой мировой. Мировой, между прочим, эту войну называют не только потому, что три десятка государств пообъявляли друг другу войну, а еще и потому, что в реальных боевых действиях впервые участвовали огромные, массовые, по сути "народные" армии, представлявшие собой социальный срез всей нации. Такой, можно сказать, был тогда устроен кровавый мировой "смотр", испытание народов и государств на материальную и духовную крепость.
Так вот, пятнадцатимиллионная русская армия вытерпела в этих окопах всего три года, и когда терпежу никакого не стало, устроила в тылу революцию, от которой пошли все остальные наши несчастья. А нежные французы, англичане и подоспевшие американцы методично вытерпели все от звонка до звонка, за что им и досталась победа, а главное -- никаких революций и неизбежного послереволюционного кошмара.
Заглянув в наше прошлое еще глубже, обнаруживаешь тоже не вполне однозначную картину: да, несколько веков Русь терпела монгольское иго. Но монгольское нашествие оказалось столь победоносным, а неволя столь долгой не в последнюю очередь и оттого, что русские князья плохо терпели друг друга и это обернулось погибельным раздроблением сил. А там уж, вестимо, пришлось терпеть.
Вот и получается, что пресловутое "долготерпение" нашего народа оказывается востребованным аккурат после того, как его же, народа, нетерпение создает ему серьезные проблемы.
Что там еще терпели наши славные предки? Многовековой крепостной гнет? Да, было дело. Но вся история России ХVI--XVIII веков -- это не только история ужесточения крепостного права, но и история почти непрерывных народных бунтов, несколько раз перераставших в масштабные крестьянские войны, ставившие под угрозу само существование Российского государства. И Стенька Разин, и Емелька Пугачев прошлись по России не хуже какого-нибудь Мамая, и сам черт теперь не разберет -- народ ли бунтовал в ответ на ужесточение государственного и помещичьего гнета или государство, зная о неиссякаемом бунтарстве народа, вынуждено было постоянно "укорачивать поводок".
С другой стороны, с легендой о "долготерпении" никак не согласуется массовый характер бегства крестьян от своих помещиков -- на Дон, в Сибирь и еще дальше. В сущности, силами этих беглых крестьян, превращавшихся в казаков, и были в относительно короткий срок колонизированы огромные пространства за Уралом.
Можно себе представить, какое количество "нетерпеливых" потребно было для решения такой грандиозной задачи. Государственная мощь России, стало быть, созидалась не столько терпеливым трудом по принципу "где родился, там и пригодился", сколько нетерпеливой энергией бегства от установленных властью порядков.
Власть и народ, таким образом, всегда находились в состоянии напряженного соревнования: народ убегал в поисках воли, а государство его догоняло, чтобы принудить к службе своим интересам. Заметим в скобках, что это постоянное соперничество как-то отвлекало и власть, и народ от их прямого и совместного дела -- внутреннего обустройства России. Отчего Россия до сих пор напоминает огромный черновик великой державы -- все контуры и все линии развития вроде бы намечены, но ни одна не завершена.
Терпение и труп
Словом, реальная российская история не слишком охотно подтверждает легенду о народном "долготерпении" и чуть ли не кротости: каждый период стабильности обеспечивался у нас только прямым государственным насилием, уровень которого в России, в отличие от европейских стран, от века к веку не понижался, а повышался. В первые десятилетия советской власти он вообще граничил с геноцидом, с истреблением целых социальных слоев. А терпеть что-либо под угрозой насилия совсем не то, что терпеть свободно и сознательно, по склонности натуры или во имя каких-то более высоких целей, чем элементарное самосохранение.
Русский народ и впрямь "терпелив" (жестокая история обучила), но это, если приглядеться, вовсе не то терпение, которое христиане почитают за одну из "малых добродетелей" и по поводу которого в Евангелии сказано: "Претерпевый до конца, той спасен будет". В христианстве терпение есть смирение и согласие с предустановленным Богом ходом жизни, умение стойко переносить беды и несчастья. Терпением преодолеваются подстерегающие человека соблазны, терпение есть прилежание в богоугодных трудах и т.д.
То есть терпение в этой традиции исключительно позитивно, оно ориентирует человека на приятие жизни и на созидательное участие в ней. Именно про это терпение трактуют все пословицы народов мира, в том числе и пословицы русского народа.
Но пословицы -- это, так сказать, теория, в них скорее выражается народный идеал, чем отражается повседневная практика. А на практике русское терпение не имеет ничего общего с евангельским смирением и тем более прилежанием. Ведь если вдуматься, то буквальный смысл популярной русской пословицы "Терпенье и труд все перетрут" ужасен: терпенье и труд не только не сделают что-то положительное и материальное, а, напротив, превратят все в труху, тлен, разрушат.
Дело в том, что в России, в сущности, не было эпохи, когда бы народ ощущал себя свободным, а народное терпение было бы направлено на какую-то созидательную, положительную цель. Терпение в обстоятельствах русской истории из инструмента достижения согласия с миром превратилось в механизм адаптации, приспособления человека к заведомо чужому, врагами установленному порядку.
Для того чтобы выжить, приходилось терпеть иноземного захватчика, кровопийцу-помещика, жестоких и корыстных "царевых слуг". Человек терпел (куда же деваться?), но ни на минуту не признавал этот порядок жизни справедливым. И чуть только чувствовал слабину -- тут же старался чуждые установления разрушить. То есть в этом терпении постоянно аккумулировалась агрессия.
Так, собственно, чужой оказывалась практически вся реальная, материальная жизнь, поскольку над ней целиком властвовали враги -- иноземцы, помещики либо государство. А потому вкладывать в усовершенствование, улучшение, украшение этой отчужденной реальности силы и труд (больше, чем это оказывалось необходимо для простого выживания) было нормальному русскому человеку как-то дико. Энтузиасты, конечно, встречались, но большинство окружающих воспринимали их как юродивых. Оттого и города, и деревни российские, и быт русских людей поражали взгляд иностранцев своим неблагообразием, неустроенностью, грязью. Отсюда и ничем иным не объяснимое стремление во время революции не только разграбить, к примеру, помещичьи имения, но и непременно сжечь, разрушить, разорить дома и постройки, которые еще могли бы послужить тем же крестьянам.
Когда хотят похвалить русский народ и представить его как созидателя, обычно указывают на построенные им дворцы и храмы: вот, дескать, какой талантливый, трудолюбивый народ! Но после революции дворцы и храмы разрушались по всей России едва ли не с азартом и глумлением -- руками детей и внуков тех, кто их в поте лица возводил. Это все было чуждое, по чужому приказу построенное.
Материальная жизнь вообще воспринималась чуждой, и от нее всеми способами бежали: кто-то на Дон или в Сибирь, кто-то в Бога, кто-то в мечтания о Беловодье или граде Китеже, где жизнь устроена справедливо. Но самым распространенным способом побега от реальности была и осталась, понятное дело, водка.
Против течения
Века пребывания в таком, с позволения сказать, "вооруженном терпении" оставили в национальном характере тяжелые следы. Особенно разрушительны были в этом смысле советские годы, когда власти безраздельно контролировали не только внешний, материальный мир, но и стремились влезть в душу человека, отрезать ему все пути к бегству. Тут уж наш человек под бременем "терпения" совсем изнемог. Чтобы адаптироваться к такому тотальному контролю, он неизбежно ожесточался, черствел, проникался равнодушием ко всему, что не касалось его личных проблем, отчуждался не только от государства и его дел, но и от других людей.
Все социологические исследования последних лет об этом отчуждении буквально вопиют: жизнь во всем ее многообразии наших людей не интересует, ничего хорошего они от нее не ждут, но и никаких личных усилий к ее улучшению прилагать тоже не собираются. Это классический вариант "застойной" психологии, и недаром лучшим временем в истории России большинство считает брежневские годы.
Нежданно наступившая свобода пока мало что изменила в отношении народа к жизни.
Как те же социологические исследования показывают, "программа-максимум" современного массового человека -- всеми способами сохранить "статус-кво", то состояние, к которому он уже притерпелся. Наше динамичное время, все эти реформы и модернизации он воспринимает как чужое и враждебное, как то, что нужно, по опыту прошлых веков, "перетерпеть". И потому нынешний "терпящий" напоминает пловца, плывущего против сильного течения: бешено работая руками и ногами, он всего лишь остается на прежнем месте. Это, надо признать, тяжкий труд -- тяжкий труд неделания того, чего требуют обстоятельства. Слава богу, и сейчас человеку есть куда сбежать из "большого времени": в огородничество, в рыбалку, в потребление "мыльных опер". Ну и родная сорокаградусная никуда не делась.
Бурные 90-е годы это "терпеливое", пассивное большинство чрезвычайно растревожили, разбередили, разрушили стереотипы, на основе которых строилась его жизнь. В частности, на время как бы исчезло государство, и народ, привычно терпя все катаклизмы переходной эпохи, не очень понимал, кто тот "чужой", из-за которого он терпит беды и лишения. И когда к власти пришел Путин, а вместе с ним на привычную роль кормильца, поильца и контролера стало возвращаться государство, эти люди испытали очень сильное психологическое облегчение. Не потому, что государство пообещало улучшить жизнь и даже какие-то шаги в этом направлении сделало, а потому, что снова стало понятно, "против кого терпеть". Никакое, пусть даже самое суперсоциальное государство не принудит это "терпеливое большинство" к лояльности и, главное, к созидательному сотрудничеству: даже купаясь в молочных реках среди кисельных берегов, эти люди все равно будут "терпеть" и считать государство чужим и враждебным.
Парадоксально, но факт: те, кто привык находиться в ощущении "терпящих несправедливость", чаще всего склонны надеяться на "сильную руку", которая "наведет порядок", издержки которого, вестимо, потом можно будет с чистой совестью "терпеть".
Кстати, раз уж зашла речь о социальном государстве, социальной защищенности и прочих понятиях этого рода. У нас социальную защищенность понимают однозначно: как обязанность государства защищать слабых от натиска жизни. Ни разу никому не пришло в голову прочитать это словосочетание как намек на возможность общества (социума) защищать себя самому -- в том числе и от государства. Потому и не пришло, что миллионы пассивно терпеливых в такое автономное общество соединиться не могут, поскольку их "терпение" всегда чревато агрессией.
Земля плоская
Обратная сторона нашего "терпения" -- нетерпимость. Чем большему напору времени и новизны подвергается охраняемое статус-кво, тем выше в ответ поднимается градус общественной агрессии и бытовой жестокости. Она может быть направлена буквально на все: на "инородцев", на "богатых", на "слишком умных". Здесь даже не надо вспоминать недавние погромы на рынках, рост националистических настроений и прочее в этом роде: достаточно просто пройтись по городу, чтобы почувствовать, насколько его воздух наэлектризован немотивированной агрессией.
Да вот вам картинка. Выхожу я недавно из метро: куча народу, бабушки торгуют сигаретами и варежками, пьяненькие сограждане пробираются по стеночке кафельного перехода, но юный милиционер без видимых знаков различия останавливает именно меня и требует предъявить документы. И бес меня попутал: секунду подумав, вежливо прошу представиться и предъявить его документы. Он (должно быть, от неожиданности) молчит минуту, и за эту минуту я слышу минимум пять оценок своего поведения со стороны окружающих -- бабушек с сигаретами и просто случайных прохожих: "Еще и выпендривается!" Вняв общему гласу, мент берет меня за воротник: "Ну-ка пошли!" Кончается все вялыми официальными извинениями, ибо помимо отсутствия "состава преступления" у меня присутствуют откровенно славянская внешность и исправный паспорт.
Но Бог с ним, с ментом -- он, может быть, каждого десятого высчитывал и выдергивал. Но публика? Почему им моя нормальная (и даже скромно-почтительная) просьба предъявить свидетельство прав вышеописанного милиционера показалась чем-то неприличным и вызывающим? Я ведь точно знаю: сострой я плаксивую гримасу, скажи что-нибудь вроде: "Да ладно, сержант, паспорт у меня дома, а вон и автобус подошел", -- те же самые люди вступились бы за меня, и бедный мальчик в погонах наслушался бы про то, что милиция честных людей цепляет, а бандиты все на свободе.
Я сделал не так, как принято среди терпеливых сограждан, и был наказан не только получасовым выяснением личности, но и неприязнью (нетерпимостью) большинства окружающих. Мы терпим -- и ты терпи!
Тем, кто терпел то, что Земля плоская, сторонники других точек зрения всегда были поперек горла.
У русского народа замечательная "психологическая", если так можно выразиться, репутация: не только мы сами, но и весь мир вот уже которое столетие восхищен нашим легендарным долготерпением, которое воспели Некрасов и Толстой, Тургенев и Достоевский. Право, каждый раз, как слышу про "долготерпение", испытываю род смущения, словно начинающий жулик.И Будда терпит лишь до трех раз.
Японская пословица
Черновик великой державы
В основе этой репутации, как часто случается с Россией, лежит недоразумение. Берется, к примеру, сумма бед и несчастий, которые пережила страна в ХХ, предположим, веке, и сопоставляется с тем несомненным фактом, что к концу кровавого столетия одна шестая часть суши выглядит не дотла выжженной пустыней, как могла бы, а все-таки не совсем заброшенным пустырем, в отдельных углах которого жизнь продолжается -- порой даже слишком бурно. Стало быть, делается тут же оптимистический вывод: источник сил народных не иссяк, народ вытерпел все и еще не такое способен вытерпеть. Ни один другой народ, добавляется обычно сразу же с "законной гордостью", такого ужаса не вынес бы, только наш.
Возражать на это трудно, потому что сравнивать не с чем -- ни один другой народ в нашем столетии и в самом деле ничего подобного не переживал. Как бы повели себя, например, гордые британцы, ежели бы у них сразу после Первой мировой случились подряд революция, гражданская война, голод, коллективизация, индустриализация, репрессии, потом снова война, -- никто не знает. Почему-то считается, что повели бы они себя плохо, то есть вымерли бы все. И любые европейцы вымерли бы, не говоря уж о неженках-американцах.
Вся штука в том, что с ними почему-то не произошло таких несчастий, как с нами, хотя исторический, а не календарный ХХ век они начинали там же, где и мы, -- в окопах Первой мировой. Мировой, между прочим, эту войну называют не только потому, что три десятка государств пообъявляли друг другу войну, а еще и потому, что в реальных боевых действиях впервые участвовали огромные, массовые, по сути "народные" армии, представлявшие собой социальный срез всей нации. Такой, можно сказать, был тогда устроен кровавый мировой "смотр", испытание народов и государств на материальную и духовную крепость.
Так вот, пятнадцатимиллионная русская армия вытерпела в этих окопах всего три года, и когда терпежу никакого не стало, устроила в тылу революцию, от которой пошли все остальные наши несчастья. А нежные французы, англичане и подоспевшие американцы методично вытерпели все от звонка до звонка, за что им и досталась победа, а главное -- никаких революций и неизбежного послереволюционного кошмара.
Заглянув в наше прошлое еще глубже, обнаруживаешь тоже не вполне однозначную картину: да, несколько веков Русь терпела монгольское иго. Но монгольское нашествие оказалось столь победоносным, а неволя столь долгой не в последнюю очередь и оттого, что русские князья плохо терпели друг друга и это обернулось погибельным раздроблением сил. А там уж, вестимо, пришлось терпеть.
Вот и получается, что пресловутое "долготерпение" нашего народа оказывается востребованным аккурат после того, как его же, народа, нетерпение создает ему серьезные проблемы.
Что там еще терпели наши славные предки? Многовековой крепостной гнет? Да, было дело. Но вся история России ХVI--XVIII веков -- это не только история ужесточения крепостного права, но и история почти непрерывных народных бунтов, несколько раз перераставших в масштабные крестьянские войны, ставившие под угрозу само существование Российского государства. И Стенька Разин, и Емелька Пугачев прошлись по России не хуже какого-нибудь Мамая, и сам черт теперь не разберет -- народ ли бунтовал в ответ на ужесточение государственного и помещичьего гнета или государство, зная о неиссякаемом бунтарстве народа, вынуждено было постоянно "укорачивать поводок".
С другой стороны, с легендой о "долготерпении" никак не согласуется массовый характер бегства крестьян от своих помещиков -- на Дон, в Сибирь и еще дальше. В сущности, силами этих беглых крестьян, превращавшихся в казаков, и были в относительно короткий срок колонизированы огромные пространства за Уралом.
Можно себе представить, какое количество "нетерпеливых" потребно было для решения такой грандиозной задачи. Государственная мощь России, стало быть, созидалась не столько терпеливым трудом по принципу "где родился, там и пригодился", сколько нетерпеливой энергией бегства от установленных властью порядков.
Власть и народ, таким образом, всегда находились в состоянии напряженного соревнования: народ убегал в поисках воли, а государство его догоняло, чтобы принудить к службе своим интересам. Заметим в скобках, что это постоянное соперничество как-то отвлекало и власть, и народ от их прямого и совместного дела -- внутреннего обустройства России. Отчего Россия до сих пор напоминает огромный черновик великой державы -- все контуры и все линии развития вроде бы намечены, но ни одна не завершена.
Терпение и труп
Словом, реальная российская история не слишком охотно подтверждает легенду о народном "долготерпении" и чуть ли не кротости: каждый период стабильности обеспечивался у нас только прямым государственным насилием, уровень которого в России, в отличие от европейских стран, от века к веку не понижался, а повышался. В первые десятилетия советской власти он вообще граничил с геноцидом, с истреблением целых социальных слоев. А терпеть что-либо под угрозой насилия совсем не то, что терпеть свободно и сознательно, по склонности натуры или во имя каких-то более высоких целей, чем элементарное самосохранение.
Русский народ и впрямь "терпелив" (жестокая история обучила), но это, если приглядеться, вовсе не то терпение, которое христиане почитают за одну из "малых добродетелей" и по поводу которого в Евангелии сказано: "Претерпевый до конца, той спасен будет". В христианстве терпение есть смирение и согласие с предустановленным Богом ходом жизни, умение стойко переносить беды и несчастья. Терпением преодолеваются подстерегающие человека соблазны, терпение есть прилежание в богоугодных трудах и т.д.
То есть терпение в этой традиции исключительно позитивно, оно ориентирует человека на приятие жизни и на созидательное участие в ней. Именно про это терпение трактуют все пословицы народов мира, в том числе и пословицы русского народа.
Но пословицы -- это, так сказать, теория, в них скорее выражается народный идеал, чем отражается повседневная практика. А на практике русское терпение не имеет ничего общего с евангельским смирением и тем более прилежанием. Ведь если вдуматься, то буквальный смысл популярной русской пословицы "Терпенье и труд все перетрут" ужасен: терпенье и труд не только не сделают что-то положительное и материальное, а, напротив, превратят все в труху, тлен, разрушат.
Дело в том, что в России, в сущности, не было эпохи, когда бы народ ощущал себя свободным, а народное терпение было бы направлено на какую-то созидательную, положительную цель. Терпение в обстоятельствах русской истории из инструмента достижения согласия с миром превратилось в механизм адаптации, приспособления человека к заведомо чужому, врагами установленному порядку.
Для того чтобы выжить, приходилось терпеть иноземного захватчика, кровопийцу-помещика, жестоких и корыстных "царевых слуг". Человек терпел (куда же деваться?), но ни на минуту не признавал этот порядок жизни справедливым. И чуть только чувствовал слабину -- тут же старался чуждые установления разрушить. То есть в этом терпении постоянно аккумулировалась агрессия.
Так, собственно, чужой оказывалась практически вся реальная, материальная жизнь, поскольку над ней целиком властвовали враги -- иноземцы, помещики либо государство. А потому вкладывать в усовершенствование, улучшение, украшение этой отчужденной реальности силы и труд (больше, чем это оказывалось необходимо для простого выживания) было нормальному русскому человеку как-то дико. Энтузиасты, конечно, встречались, но большинство окружающих воспринимали их как юродивых. Оттого и города, и деревни российские, и быт русских людей поражали взгляд иностранцев своим неблагообразием, неустроенностью, грязью. Отсюда и ничем иным не объяснимое стремление во время революции не только разграбить, к примеру, помещичьи имения, но и непременно сжечь, разрушить, разорить дома и постройки, которые еще могли бы послужить тем же крестьянам.
Когда хотят похвалить русский народ и представить его как созидателя, обычно указывают на построенные им дворцы и храмы: вот, дескать, какой талантливый, трудолюбивый народ! Но после революции дворцы и храмы разрушались по всей России едва ли не с азартом и глумлением -- руками детей и внуков тех, кто их в поте лица возводил. Это все было чуждое, по чужому приказу построенное.
Материальная жизнь вообще воспринималась чуждой, и от нее всеми способами бежали: кто-то на Дон или в Сибирь, кто-то в Бога, кто-то в мечтания о Беловодье или граде Китеже, где жизнь устроена справедливо. Но самым распространенным способом побега от реальности была и осталась, понятное дело, водка.
Против течения
Века пребывания в таком, с позволения сказать, "вооруженном терпении" оставили в национальном характере тяжелые следы. Особенно разрушительны были в этом смысле советские годы, когда власти безраздельно контролировали не только внешний, материальный мир, но и стремились влезть в душу человека, отрезать ему все пути к бегству. Тут уж наш человек под бременем "терпения" совсем изнемог. Чтобы адаптироваться к такому тотальному контролю, он неизбежно ожесточался, черствел, проникался равнодушием ко всему, что не касалось его личных проблем, отчуждался не только от государства и его дел, но и от других людей.
Все социологические исследования последних лет об этом отчуждении буквально вопиют: жизнь во всем ее многообразии наших людей не интересует, ничего хорошего они от нее не ждут, но и никаких личных усилий к ее улучшению прилагать тоже не собираются. Это классический вариант "застойной" психологии, и недаром лучшим временем в истории России большинство считает брежневские годы.
Нежданно наступившая свобода пока мало что изменила в отношении народа к жизни.
Как те же социологические исследования показывают, "программа-максимум" современного массового человека -- всеми способами сохранить "статус-кво", то состояние, к которому он уже притерпелся. Наше динамичное время, все эти реформы и модернизации он воспринимает как чужое и враждебное, как то, что нужно, по опыту прошлых веков, "перетерпеть". И потому нынешний "терпящий" напоминает пловца, плывущего против сильного течения: бешено работая руками и ногами, он всего лишь остается на прежнем месте. Это, надо признать, тяжкий труд -- тяжкий труд неделания того, чего требуют обстоятельства. Слава богу, и сейчас человеку есть куда сбежать из "большого времени": в огородничество, в рыбалку, в потребление "мыльных опер". Ну и родная сорокаградусная никуда не делась.
Бурные 90-е годы это "терпеливое", пассивное большинство чрезвычайно растревожили, разбередили, разрушили стереотипы, на основе которых строилась его жизнь. В частности, на время как бы исчезло государство, и народ, привычно терпя все катаклизмы переходной эпохи, не очень понимал, кто тот "чужой", из-за которого он терпит беды и лишения. И когда к власти пришел Путин, а вместе с ним на привычную роль кормильца, поильца и контролера стало возвращаться государство, эти люди испытали очень сильное психологическое облегчение. Не потому, что государство пообещало улучшить жизнь и даже какие-то шаги в этом направлении сделало, а потому, что снова стало понятно, "против кого терпеть". Никакое, пусть даже самое суперсоциальное государство не принудит это "терпеливое большинство" к лояльности и, главное, к созидательному сотрудничеству: даже купаясь в молочных реках среди кисельных берегов, эти люди все равно будут "терпеть" и считать государство чужим и враждебным.
Парадоксально, но факт: те, кто привык находиться в ощущении "терпящих несправедливость", чаще всего склонны надеяться на "сильную руку", которая "наведет порядок", издержки которого, вестимо, потом можно будет с чистой совестью "терпеть".
Кстати, раз уж зашла речь о социальном государстве, социальной защищенности и прочих понятиях этого рода. У нас социальную защищенность понимают однозначно: как обязанность государства защищать слабых от натиска жизни. Ни разу никому не пришло в голову прочитать это словосочетание как намек на возможность общества (социума) защищать себя самому -- в том числе и от государства. Потому и не пришло, что миллионы пассивно терпеливых в такое автономное общество соединиться не могут, поскольку их "терпение" всегда чревато агрессией.
Земля плоская
Обратная сторона нашего "терпения" -- нетерпимость. Чем большему напору времени и новизны подвергается охраняемое статус-кво, тем выше в ответ поднимается градус общественной агрессии и бытовой жестокости. Она может быть направлена буквально на все: на "инородцев", на "богатых", на "слишком умных". Здесь даже не надо вспоминать недавние погромы на рынках, рост националистических настроений и прочее в этом роде: достаточно просто пройтись по городу, чтобы почувствовать, насколько его воздух наэлектризован немотивированной агрессией.
Да вот вам картинка. Выхожу я недавно из метро: куча народу, бабушки торгуют сигаретами и варежками, пьяненькие сограждане пробираются по стеночке кафельного перехода, но юный милиционер без видимых знаков различия останавливает именно меня и требует предъявить документы. И бес меня попутал: секунду подумав, вежливо прошу представиться и предъявить его документы. Он (должно быть, от неожиданности) молчит минуту, и за эту минуту я слышу минимум пять оценок своего поведения со стороны окружающих -- бабушек с сигаретами и просто случайных прохожих: "Еще и выпендривается!" Вняв общему гласу, мент берет меня за воротник: "Ну-ка пошли!" Кончается все вялыми официальными извинениями, ибо помимо отсутствия "состава преступления" у меня присутствуют откровенно славянская внешность и исправный паспорт.
Но Бог с ним, с ментом -- он, может быть, каждого десятого высчитывал и выдергивал. Но публика? Почему им моя нормальная (и даже скромно-почтительная) просьба предъявить свидетельство прав вышеописанного милиционера показалась чем-то неприличным и вызывающим? Я ведь точно знаю: сострой я плаксивую гримасу, скажи что-нибудь вроде: "Да ладно, сержант, паспорт у меня дома, а вон и автобус подошел", -- те же самые люди вступились бы за меня, и бедный мальчик в погонах наслушался бы про то, что милиция честных людей цепляет, а бандиты все на свободе.
Я сделал не так, как принято среди терпеливых сограждан, и был наказан не только получасовым выяснением личности, но и неприязнью (нетерпимостью) большинства окружающих. Мы терпим -- и ты терпи!
Тем, кто терпел то, что Земля плоская, сторонники других точек зрения всегда были поперек горла.
АЛЕКСАНДР АГЕЕВ
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".