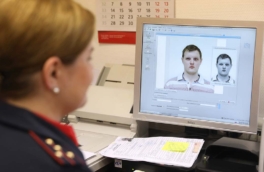Архивная публикация 2006 года: "Максим ШОСТАКОВИЧ: «Мы жили, как в гетто»"
25 сентября великому композитору Дмитрию Шостаковичу исполнилось бы 100 лет. Его сын Максим Дмитриевич Шостакович делом своей жизни считает пропаганду творческого наследия отца и не испытывает комплекса недооцененности из-за того, что чаще всего его и представляют: «сын великого Шостаковича». Во время одного из выступлений в Праге с Максимом Дмитриевичем побеседовала Наталья КОРНЕЛЮК.— Максим Дмитриевич, в одном из интервью вы, рассказывая о своей семье, упоминаете, как к вашей маме, талантливому физику, приходили в гости Капица, Иоффе, другие ученые. К отцу заходил, к примеру, Мравинский… А о чем разговаривали великие физики и великие музыканты?
— Они просто приходили в гости. В то время ученые были очень разносторонне развитыми людьми. Наука была романтическая, они рассказывали о своих открытиях, о развитии атомных исследований, ракетостроении, генетике. И эти рассказы захватывали и художников, и композиторов. Когда они собирались у нас, слушали музыку, ведь ученые интересовались искусством, они интересовались друг другом и тем, что другие делают.
— А что интересовало композиторов в том, как космические лучи проходят через вселенную?
— Зависит от того, как это подать. Вот, например, Ландау… Я даже когда был маленьким, ходил в МИФИ, что на улице Кирова напротив почтамта, чтобы послушать его лекции. Я музыкант, но его лекции были страшно интересными. Он находил какой-то романтический, а не сухой подход к этому. Излагал все настолько захватывающе, что во время его лекций либо бесед с ним хотелось стать физиком.
— Насколько этот родительский круг общения повлиял на вашу судьбу?
— Если говорить о музыкальной стороне моей судьбы, то это здорово помогло в формировании музыкального вкуса. Когда мы ходили с отцом на концерты, встречались с музыкантами и композиторами у нас дома, отец потом обсуждал со мной эти концерты. Я с малолетства начинал понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Это была школа изучения не только его музыки, но и музыки вообще, будь то Брамс, Бетховен, Малер и т.д.
Когда мы бывали на его концертах, то если что-то было не так, он всегда говорил об этом. Я это все наматывал себе на ус и в будущем уже не совершал тех ошибок, о которых говорил отец.
— А есть ли бремя фамилии? В подавляющем большинстве случаев рядом с вашей фамилией обязательно написано «сын великого композитора Дмитрия Шостаковича»…
— Ну а чей же я сын? Это счастье и огромная ответственность. Я смог узнать его язык… Ведь композитор в музыке проявляет себя так же, как и в жизни. В его музыке проявляется тип его чувств — гнева, радости, горя, юмора, раздражения, чего угодно. Шостакович в музыке — такой, какой он был. Я ведь прожил с ним столько лет рядом. Это дает мне необыкновенное преимущество. Я слышу его голос, когда стою за дирижерским пультом, репетирую либо концертирую, он для меня никогда не умрет.
— У вас не было конфликта поколений?
— Вот чего не было, так это конфликта поколений. Когда я был маленьким, спорил с ним насчет того, как играть какие-то вещи. Он заводился, начинал тоже со мной спорить, убеждать, доказывать что-то. В конце концов прошли годы, и я время от времени вспоминаю, что вот в этом нюансе он все же был прав...
— Помните, как вы в детстве залезли на дерево и стреляли из рогатки по хулителям отца, проклинавшим его после появления знаменитого постановления ЦК КПСС «О борьбе с формализмом в музыке»? Как он на ваше поведение и рогатку реагировал?
— Даже не помню, сказал ли я ему об этом. Наверняка нет. Это позже рассказал совсем другим людям. Если бы ему сказал, мне бы наверняка попало. Ведь зачем же стрелять из рогатки в людей? Но это был всплеск моего протеста. Я понимал, что отношение к нему было несправедливым. Люди понаслушались радио, поначитались газет, где было написано, что Шостакович — враг народа, что он формалист, пишет антинародную музыку. Но я ведь понимал, что это неправда. Я защищал его. И правильно делал.
— Но ведь были пионером, комсомольцем?
— Пионером — да, был. Хотелось быть вместе со всеми, таким же, как и все.
— А не было мысли, что отец не прав? Что наверняка есть какие-то другие пути?
— Таких мыслей никогда не было. Мы жили как в гетто. Наша семья была замкнутым гетто, где мы друг друга поддерживали, а внешний мир был враждебным.
— Эта враждебность внешнего мира не помешала вашему отцу стать депутатом Верховного Совета РСФСР, а потом и СССР. Как он себя чувствовал в этой роли?
— Он использовал депутатство для того, чтобы помогать людям. В нашей квартире кто-то постоянно жил. Это были друзья и знакомые, которые возвращались из лагерей, у кого не оставалось ничего. Родители стремились им помочь как-то устроиться в жизни.
— В Советском Союзе ваш отец прославился скорее как автор музыки к фильмам, а не автор симфоний. Песня из фильма «Встречный» «Нас утро встречает прохладой…», музыка к фильму «Овод» и сейчас считаются советской песенной классикой.
— Он эту музыку писал, чтобы с долгами расплачиваться. Мы жили бедно, его произведения не исполнялись. Поэтому музыка к кинофильмам была для него просто возможностью содержать семью. И кинорежиссеры — Леонид Трауберг, Лео Арнштам и другие, зная, что за ситуация складывалась в нашей семье, давали ему такую возможность заработать. Хорошо помню, как после получения премий первым делом раздавались долги, которые учитывались в специальном блокноте.
— В вашей биографии есть два радикальных момента. Тот день, когда вы решили уехать, и день, когда вы решили вернуться. Что было последней каплей, определившей в конце концов каждое из этих решений?
— Когда речь шла об отъезде, то этих капель целое ведро собралось. Известно, в каком чудовищном положении находился отец. И до последних лет не знал, разрешат ли играть его музыку, вплоть до самых последних произведений, которые вызывали у властей неприязнь, потому что им казалось, что это пессимистично. Отцу задавали вопросы типа: «А где тут радость? Где светлое коммунистическое будущее?» Все ведь с точки зрения власти было прекрасно, а тут вдруг никто не пляшет от радости…
— Чем им могла не понравиться величественная «Родина слышит, Родина знает…»?
— Это очень грустная песня. Родина ведь на самом деле слышит и знает, это песня от лица мальчика, который понимает, что к чему, это не агитка…
— Вы эмигрировали в то время, когда занимали весьма престижную должность главного дирижера оркестра Всесоюзного радио и телевидения…
— Радио — это такая организация номенклатурная, постоянные летучки, сборы, славословие, ложь. В те годы началось какое-то чудовищное гонение на евреев, пытались выгнать всех евреев из оркестра. Черт знает что творилось. Тогда у меня был совсем юный сын, и нам казалось, что эта власть вечна, что она навсегда, и это никогда не кончится. Мысль о том, что сын для того, чтобы выжить, вынужден будет постичь все эти правила игры со всеми функционерами, была невыносима. Я этого не хотел. Я хотел свободы не только для себя, но и для него тоже. И вот мы, оказавшись на Западе, там и остались. И долго жили в Америке. Я там совершенно свободно мог говорить об отце, делать то, что я хочу.
— А почему решили вернуться?
— Я женился, и у меня родились еще дочь и сын. Машеньке моей сейчас четырнадцать лет, а Максимке — 11. Они родились в Америке. И вскоре у нас встал вопрос о том, что дети растут, надо их учить. И наше родительское стремление состояло в том, чтобы воспитать в них национальное самосознание. Когда живешь в Америке, то видишь, что мое поколение никогда не станет настоящими американцами, потому что у него нет с ними общего прошлого. Но формирование личности — это всегда вопрос общего прошлого. Почему за границей русские друг другу интересны? Общее прошлое, общая культура, привычка посидеть на кухне и обсудить самые важные проблемы…
— Еще очень важно вместе смеяться над фразой: «Редиска — нехороший человек»…
— Да, очень важно. У американцев своя кухня, они там обсуждают свои проблемы, которых мы не понимаем. С американцами у нас всегда было поверхностное общение. И мы решили переехать в Россию. Дети были маленькими, и им надо было начинать учиться. Но как? И моя жена организовала школу для детей из бедных семей, чисто благотворительное мероприятие. Сейчас прибавилась другая такая же — в Павловске. Скоро будет еще одна большая школа. Это все существует на деньги незабвенного отца. Мы их финансируем за счет средств, которые получаем от авторских прав на произведения отца.
— Это музыкальные школы?
— Не совсем. Они занимаются и рисованием, и музыкой, это нормальные общеобразовательные школы. Там учатся обычные дети. Это такое счастье — знать этих детей, они становятся нашими.
— Маша с Максимом ходят в эту школу?
— Они начинали в ней учиться. Маша уже занимается музыкой профессионально, поэтому сейчас ходит в десятилетку, в музыкальную школу. Там преподает ее учительница — Ольга Андреевна Курнавина.
А Максимка продолжает учиться в маминой школе. Один год проучился в кадетском корпусе, его очень захватила эта парадная форма. А потом как-то решил вернуться в обычную школу.
— Почему?
— Он, как и мы, представлял себе это несколько по-иному. Может, традиций офицерства не хватает. Мы хотели, чтобы это был лицей, как во времена Пушкина, но пока у нас мало таких военных, которые были бы такими же педагогами, как во времена Пушкина, знали несколько языков и т.д. Правда, теперь он опять говорит, что хочет вернуться в кадетский корпус.
— Вы уезжали из СССР, а вернулись в Россию…
— Совсем другая страна. Совершенно свободная.
— Как вы восприняли перестройку в СССР?
— Мы восприняли ее как бескровную революцию буквально во всем — начиная с ментальности людей и заканчивая политическим строем. Конечно, можно говорить, что надо было иначе. Есть такое замечательное стихотворение о клоуне, где он говорит:
«Критиковать легко, попробуйте-ка сами!
А знаете ли вы, что я не сплю ночами, Обдумывая каждый трюк…»
Сейчас с позиции времени многое видится по-другому. Я оптимист, думаю, что все будет хорошо, найдут и правильный путь, и национальную идею. Идея должна быть, чтобы люди к чему-то шли. Зажечь людей идеей нужно, но опасно. В 1917 году зажгли так, что все сгорело.
— Кстати, вспомним послереволюционные годы. Например, балет «Болт». Музыку к нему написал ваш отец, а поставил великий балетмейстер Лопухин. Либретто — максимально социалистическое: запускается новый цех, а изгнанный из коллектива за пьянство вредитель пытается этот запуск сорвать. Балет «Болт» в 1931 году жестоко раскритиковали и запретили после генеральной репетиции, но он ведь полностью соответствовал духу времени!
— Так же, как и Вторая и Третья симфонии… Революция — это было зарево.
— Ваш отец тоже был зажжен?
— Конечно, такое было время. Вспомните, тогда были и Маяковский, и футуристы… Все было новым. Казалось, начинается совсем новая жизнь.
— Как вы считаете, осознали ли эти люди, в частности, ваш отец, что они помогали выпустить джинна большевизма из бутылки?
— Вся последующая жизнь отца, его музыка, его достижения — это бесконечная борьба добра и зла. И именно того зла, которое было вокруг. Эта борьба вдохновляла его создавать те музыкальные полотна, которые он создал.
— Но он переоценивал свое восприятие революции?
— Он никогда об этом не говорил. Это было как бы само собой разумеющееся, вся страна пришла к этому, увидев лагеря, расстрелы. И революция, и порыв к новому трансформировались в страшную трагедию всего народа.
— Ваш сегодняшний подход к жизни, для которого характерен определенный консерватизм, по своей сути является отрицанием подхода, который проявляли создатели «Болта», «Клопа» и т.д. Они были антиклерикалами, а вы — глубоко верующий православный человек…
— Это так. Потому что мы увидели, к какому страшному кровопролитию привело то стремление к новому, которое тогда было. Зачем же столько народу уничтожать? Говорят, что революция пожирает своих героев, но она столько сожрала наших соотечественников, что ужас просто был.
Можно понять людей, что в то время они были захвачены какой-то такой идеей, у них было некое стремление, но их перестреляли. Хотя я на самом деле сейчас нахожусь на прямо противоположных позициях по отношению к таким левым взглядам. И, к сожалению, сейчас вновь появились леваки, для которых цель оправдывает средства.
— «В борьбе за мир мы не оставим камня на камне»…
— Вот именно.
— Вы полагаете, что можно взять в качестве примера то общество, те отношения, какие сложились в России, скажем, накануне Первой мировой войны?
— Кусок всего этого времени под Советской властью невозможно выбросить из памяти. Сразу продолжить, конечно, трудно. Надо начать как бы с того же времени, но ведь это было так давно, люди сильно изменились. Однако достижения того времени — уровень ментальной свободы народа, умение сострадать, милосердие — надо брать в качестве примера. Если бы мы развивались так, как мы развивались, общество стало бы гораздо богаче в ментальном отношении. Но из нас вырвали эти годы, и сейчас эту связь надо восстанавливать. Нам поможет духовность. Дома, например, мы стараемся соблюдать посты, причащаемся, ходим в церковь. Сейчас мы строим свой дом, такое семейное гнездо, этим жена моя занимается. Этот дом будет рядом с храмом. А вообще всему народу сейчас необходима национальная идея, духовная.
— А она вообще существовала когда-нибудь в жестко сформулированном виде?
— «За веру, царя и Отечество».
— Максим Дмитриевич, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит в российской культуре? Есть ли композиторы либо тенденции, о которых можно сказать, что они станут музыкальной визиткой, символом XXI века? Таким, каким был ваш отец для XX века…
— Я думаю, что посыл музыки Шостаковича не ограничивается XX веком. Он в целом еще до конца не понят. Он, как толкатель ядра, забросил свое ядро — музыку — в XXI век и далее. Его музыка — это бесконечный конфликт добра и зла. И то, и другое будет всегда.
25 сентября великому композитору Дмитрию Шостаковичу исполнилось бы 100 лет. Его сын Максим Дмитриевич Шостакович делом своей жизни считает пропаганду творческого наследия отца и не испытывает комплекса недооцененности из-за того, что чаще всего его и представляют: «сын великого Шостаковича». Во время одного из выступлений в Праге с Максимом Дмитриевичем побеседовала Наталья КОРНЕЛЮК.— Максим Дмитриевич, в одном из интервью вы, рассказывая о своей семье, упоминаете, как к вашей маме, талантливому физику, приходили в гости Капица, Иоффе, другие ученые. К отцу заходил, к примеру, Мравинский… А о чем разговаривали великие физики и великие музыканты?
— Они просто приходили в гости. В то время ученые были очень разносторонне развитыми людьми. Наука была романтическая, они рассказывали о своих открытиях, о развитии атомных исследований, ракетостроении, генетике. И эти рассказы захватывали и художников, и композиторов. Когда они собирались у нас, слушали музыку, ведь ученые интересовались искусством, они интересовались друг другом и тем, что другие делают.
— А что интересовало композиторов в том, как космические лучи проходят через вселенную?
— Зависит от того, как это подать. Вот, например, Ландау… Я даже когда был маленьким, ходил в МИФИ, что на улице Кирова напротив почтамта, чтобы послушать его лекции. Я музыкант, но его лекции были страшно интересными. Он находил какой-то романтический, а не сухой подход к этому. Излагал все настолько захватывающе, что во время его лекций либо бесед с ним хотелось стать физиком.
— Насколько этот родительский круг общения повлиял на вашу судьбу?
— Если говорить о музыкальной стороне моей судьбы, то это здорово помогло в формировании музыкального вкуса. Когда мы ходили с отцом на концерты, встречались с музыкантами и композиторами у нас дома, отец потом обсуждал со мной эти концерты. Я с малолетства начинал понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Это была школа изучения не только его музыки, но и музыки вообще, будь то Брамс, Бетховен, Малер и т.д.
Когда мы бывали на его концертах, то если что-то было не так, он всегда говорил об этом. Я это все наматывал себе на ус и в будущем уже не совершал тех ошибок, о которых говорил отец.
— А есть ли бремя фамилии? В подавляющем большинстве случаев рядом с вашей фамилией обязательно написано «сын великого композитора Дмитрия Шостаковича»…
— Ну а чей же я сын? Это счастье и огромная ответственность. Я смог узнать его язык… Ведь композитор в музыке проявляет себя так же, как и в жизни. В его музыке проявляется тип его чувств — гнева, радости, горя, юмора, раздражения, чего угодно. Шостакович в музыке — такой, какой он был. Я ведь прожил с ним столько лет рядом. Это дает мне необыкновенное преимущество. Я слышу его голос, когда стою за дирижерским пультом, репетирую либо концертирую, он для меня никогда не умрет.
— У вас не было конфликта поколений?
— Вот чего не было, так это конфликта поколений. Когда я был маленьким, спорил с ним насчет того, как играть какие-то вещи. Он заводился, начинал тоже со мной спорить, убеждать, доказывать что-то. В конце концов прошли годы, и я время от времени вспоминаю, что вот в этом нюансе он все же был прав...
— Помните, как вы в детстве залезли на дерево и стреляли из рогатки по хулителям отца, проклинавшим его после появления знаменитого постановления ЦК КПСС «О борьбе с формализмом в музыке»? Как он на ваше поведение и рогатку реагировал?
— Даже не помню, сказал ли я ему об этом. Наверняка нет. Это позже рассказал совсем другим людям. Если бы ему сказал, мне бы наверняка попало. Ведь зачем же стрелять из рогатки в людей? Но это был всплеск моего протеста. Я понимал, что отношение к нему было несправедливым. Люди понаслушались радио, поначитались газет, где было написано, что Шостакович — враг народа, что он формалист, пишет антинародную музыку. Но я ведь понимал, что это неправда. Я защищал его. И правильно делал.
— Но ведь были пионером, комсомольцем?
— Пионером — да, был. Хотелось быть вместе со всеми, таким же, как и все.
— А не было мысли, что отец не прав? Что наверняка есть какие-то другие пути?
— Таких мыслей никогда не было. Мы жили как в гетто. Наша семья была замкнутым гетто, где мы друг друга поддерживали, а внешний мир был враждебным.
— Эта враждебность внешнего мира не помешала вашему отцу стать депутатом Верховного Совета РСФСР, а потом и СССР. Как он себя чувствовал в этой роли?
— Он использовал депутатство для того, чтобы помогать людям. В нашей квартире кто-то постоянно жил. Это были друзья и знакомые, которые возвращались из лагерей, у кого не оставалось ничего. Родители стремились им помочь как-то устроиться в жизни.
— В Советском Союзе ваш отец прославился скорее как автор музыки к фильмам, а не автор симфоний. Песня из фильма «Встречный» «Нас утро встречает прохладой…», музыка к фильму «Овод» и сейчас считаются советской песенной классикой.
— Он эту музыку писал, чтобы с долгами расплачиваться. Мы жили бедно, его произведения не исполнялись. Поэтому музыка к кинофильмам была для него просто возможностью содержать семью. И кинорежиссеры — Леонид Трауберг, Лео Арнштам и другие, зная, что за ситуация складывалась в нашей семье, давали ему такую возможность заработать. Хорошо помню, как после получения премий первым делом раздавались долги, которые учитывались в специальном блокноте.
— В вашей биографии есть два радикальных момента. Тот день, когда вы решили уехать, и день, когда вы решили вернуться. Что было последней каплей, определившей в конце концов каждое из этих решений?
— Когда речь шла об отъезде, то этих капель целое ведро собралось. Известно, в каком чудовищном положении находился отец. И до последних лет не знал, разрешат ли играть его музыку, вплоть до самых последних произведений, которые вызывали у властей неприязнь, потому что им казалось, что это пессимистично. Отцу задавали вопросы типа: «А где тут радость? Где светлое коммунистическое будущее?» Все ведь с точки зрения власти было прекрасно, а тут вдруг никто не пляшет от радости…
— Чем им могла не понравиться величественная «Родина слышит, Родина знает…»?
— Это очень грустная песня. Родина ведь на самом деле слышит и знает, это песня от лица мальчика, который понимает, что к чему, это не агитка…
— Вы эмигрировали в то время, когда занимали весьма престижную должность главного дирижера оркестра Всесоюзного радио и телевидения…
— Радио — это такая организация номенклатурная, постоянные летучки, сборы, славословие, ложь. В те годы началось какое-то чудовищное гонение на евреев, пытались выгнать всех евреев из оркестра. Черт знает что творилось. Тогда у меня был совсем юный сын, и нам казалось, что эта власть вечна, что она навсегда, и это никогда не кончится. Мысль о том, что сын для того, чтобы выжить, вынужден будет постичь все эти правила игры со всеми функционерами, была невыносима. Я этого не хотел. Я хотел свободы не только для себя, но и для него тоже. И вот мы, оказавшись на Западе, там и остались. И долго жили в Америке. Я там совершенно свободно мог говорить об отце, делать то, что я хочу.
— А почему решили вернуться?
— Я женился, и у меня родились еще дочь и сын. Машеньке моей сейчас четырнадцать лет, а Максимке — 11. Они родились в Америке. И вскоре у нас встал вопрос о том, что дети растут, надо их учить. И наше родительское стремление состояло в том, чтобы воспитать в них национальное самосознание. Когда живешь в Америке, то видишь, что мое поколение никогда не станет настоящими американцами, потому что у него нет с ними общего прошлого. Но формирование личности — это всегда вопрос общего прошлого. Почему за границей русские друг другу интересны? Общее прошлое, общая культура, привычка посидеть на кухне и обсудить самые важные проблемы…
— Еще очень важно вместе смеяться над фразой: «Редиска — нехороший человек»…
— Да, очень важно. У американцев своя кухня, они там обсуждают свои проблемы, которых мы не понимаем. С американцами у нас всегда было поверхностное общение. И мы решили переехать в Россию. Дети были маленькими, и им надо было начинать учиться. Но как? И моя жена организовала школу для детей из бедных семей, чисто благотворительное мероприятие. Сейчас прибавилась другая такая же — в Павловске. Скоро будет еще одна большая школа. Это все существует на деньги незабвенного отца. Мы их финансируем за счет средств, которые получаем от авторских прав на произведения отца.
— Это музыкальные школы?
— Не совсем. Они занимаются и рисованием, и музыкой, это нормальные общеобразовательные школы. Там учатся обычные дети. Это такое счастье — знать этих детей, они становятся нашими.
— Маша с Максимом ходят в эту школу?
— Они начинали в ней учиться. Маша уже занимается музыкой профессионально, поэтому сейчас ходит в десятилетку, в музыкальную школу. Там преподает ее учительница — Ольга Андреевна Курнавина.
А Максимка продолжает учиться в маминой школе. Один год проучился в кадетском корпусе, его очень захватила эта парадная форма. А потом как-то решил вернуться в обычную школу.
— Почему?
— Он, как и мы, представлял себе это несколько по-иному. Может, традиций офицерства не хватает. Мы хотели, чтобы это был лицей, как во времена Пушкина, но пока у нас мало таких военных, которые были бы такими же педагогами, как во времена Пушкина, знали несколько языков и т.д. Правда, теперь он опять говорит, что хочет вернуться в кадетский корпус.
— Вы уезжали из СССР, а вернулись в Россию…
— Совсем другая страна. Совершенно свободная.
— Как вы восприняли перестройку в СССР?
— Мы восприняли ее как бескровную революцию буквально во всем — начиная с ментальности людей и заканчивая политическим строем. Конечно, можно говорить, что надо было иначе. Есть такое замечательное стихотворение о клоуне, где он говорит:
«Критиковать легко, попробуйте-ка сами!
А знаете ли вы, что я не сплю ночами, Обдумывая каждый трюк…»
Сейчас с позиции времени многое видится по-другому. Я оптимист, думаю, что все будет хорошо, найдут и правильный путь, и национальную идею. Идея должна быть, чтобы люди к чему-то шли. Зажечь людей идеей нужно, но опасно. В 1917 году зажгли так, что все сгорело.
— Кстати, вспомним послереволюционные годы. Например, балет «Болт». Музыку к нему написал ваш отец, а поставил великий балетмейстер Лопухин. Либретто — максимально социалистическое: запускается новый цех, а изгнанный из коллектива за пьянство вредитель пытается этот запуск сорвать. Балет «Болт» в 1931 году жестоко раскритиковали и запретили после генеральной репетиции, но он ведь полностью соответствовал духу времени!
— Так же, как и Вторая и Третья симфонии… Революция — это было зарево.
— Ваш отец тоже был зажжен?
— Конечно, такое было время. Вспомните, тогда были и Маяковский, и футуристы… Все было новым. Казалось, начинается совсем новая жизнь.
— Как вы считаете, осознали ли эти люди, в частности, ваш отец, что они помогали выпустить джинна большевизма из бутылки?
— Вся последующая жизнь отца, его музыка, его достижения — это бесконечная борьба добра и зла. И именно того зла, которое было вокруг. Эта борьба вдохновляла его создавать те музыкальные полотна, которые он создал.
— Но он переоценивал свое восприятие революции?
— Он никогда об этом не говорил. Это было как бы само собой разумеющееся, вся страна пришла к этому, увидев лагеря, расстрелы. И революция, и порыв к новому трансформировались в страшную трагедию всего народа.
— Ваш сегодняшний подход к жизни, для которого характерен определенный консерватизм, по своей сути является отрицанием подхода, который проявляли создатели «Болта», «Клопа» и т.д. Они были антиклерикалами, а вы — глубоко верующий православный человек…
— Это так. Потому что мы увидели, к какому страшному кровопролитию привело то стремление к новому, которое тогда было. Зачем же столько народу уничтожать? Говорят, что революция пожирает своих героев, но она столько сожрала наших соотечественников, что ужас просто был.
Можно понять людей, что в то время они были захвачены какой-то такой идеей, у них было некое стремление, но их перестреляли. Хотя я на самом деле сейчас нахожусь на прямо противоположных позициях по отношению к таким левым взглядам. И, к сожалению, сейчас вновь появились леваки, для которых цель оправдывает средства.
— «В борьбе за мир мы не оставим камня на камне»…
— Вот именно.
— Вы полагаете, что можно взять в качестве примера то общество, те отношения, какие сложились в России, скажем, накануне Первой мировой войны?
— Кусок всего этого времени под Советской властью невозможно выбросить из памяти. Сразу продолжить, конечно, трудно. Надо начать как бы с того же времени, но ведь это было так давно, люди сильно изменились. Однако достижения того времени — уровень ментальной свободы народа, умение сострадать, милосердие — надо брать в качестве примера. Если бы мы развивались так, как мы развивались, общество стало бы гораздо богаче в ментальном отношении. Но из нас вырвали эти годы, и сейчас эту связь надо восстанавливать. Нам поможет духовность. Дома, например, мы стараемся соблюдать посты, причащаемся, ходим в церковь. Сейчас мы строим свой дом, такое семейное гнездо, этим жена моя занимается. Этот дом будет рядом с храмом. А вообще всему народу сейчас необходима национальная идея, духовная.
— А она вообще существовала когда-нибудь в жестко сформулированном виде?
— «За веру, царя и Отечество».
— Максим Дмитриевич, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит в российской культуре? Есть ли композиторы либо тенденции, о которых можно сказать, что они станут музыкальной визиткой, символом XXI века? Таким, каким был ваш отец для XX века…
— Я думаю, что посыл музыки Шостаковича не ограничивается XX веком. Он в целом еще до конца не понят. Он, как толкатель ядра, забросил свое ядро — музыку — в XXI век и далее. Его музыка — это бесконечный конфликт добра и зла. И то, и другое будет всегда.
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".