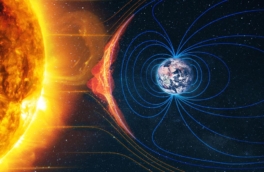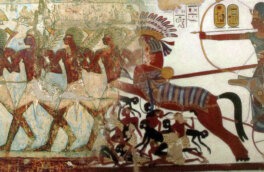- Главная страница
- Архив
- Архивная публикация 2008 года: "Россия и НАТО: прагматика любовного треугольника"
Архивная публикация 2008 года: "Россия и НАТО: прагматика любовного треугольника"
Потребность в анализе российско-натовского взаимодействия стала особо
насущной именно сегодня, когда определяется не только будущее Украины и
Грузии, но и перспектива наших отношений с Западом.
Запад предлагает нам выбор: либо мы принимаем натовский диктат, сохраняя внешнее подобие диалога, либо идем на конфронтацию. В последнем случае лидеры альянса могут посягнуть не только на отечественный Стабфонд, но и на качество российской государственности. С другой стороны, сбросив нас в геополитический остаток, Запад неизбежно снизит свой общий потенциал. Тем самым провоцируя столкновение с китайским и исламским «мирами», менее уязвимыми, чем мы. Парадокс состоит в том, что сохранение нашей глобально балансирующей роли дает Западу больше преимуществ, чем расправа над Россией.
Осознают ли это на Западе? Логикой — да. Но соблазн достижения еще одного геополитического рубежа заложен эйфорией конца 90-х (в 80-х годах мы тоже намеревались оставить Афганистан сразу после расширения зоны контроля в Панджшере или вокруг Кандагара).
Можно, конечно, посетовать на то, что не получилось стратегического партнерства с Западом. Однако оно и не могло получиться из-за отсутствия общих целей (нельзя же считать таковыми пресечение иногалактического вторжения или предупреждение «бунта машин» в духе голливудских фильмов). А совместная антитеррористическая борьба свелась к оправданию американского присутствия в Средней Азии. Реальный противник Запада сегодня — это Китай. Но с ним нас связывает куда больше, чем со Старым и Новым Светом.
Вступление в НАТО Украины и Грузии приведет едва ли не к самому радикальному в российской истории и самому затратному пересмотру системы обороны страны. Обессмысливаются такие понятия, как «соотношение сил» и «подлетное время», уязвимость российских центров
власти ничем не компенсируется. А публичные отказы натовских претендентов от размещения иностранных баз, как и их обещания стать пресловутым «мостом», и юридически, и практически ничтожны — по условиям членства в НАТО, военная деятельность блока распространяется на всех вступивших. И с выходом западного альянса на рубеж Большого Кавказского хребта, Ростова и Воронежа нам легче перенести столицу вглубь России, чем договариваться о профилактике искушений.
Киев и Тбилиси одинаково связывают свое натовское будущее с укреплением позиций в энергетической сфере. На самом деле их вступление в альянс ничего не изменит ни для нас, ни для них. На Украине считают, что военное «присовокупление» к Европе усилит ее голос в диалоге с Москвой, упорно не замечая, что ценовая стандартизация уже давно вошла
в повестку дня переговоров Москвы с Евросоюзом. Военно-ультимативное ценообразование — это либо майданный довод в пользу НАТО, либо повод к военному конфликту с Россией (если они собираются снижать себестоимость газодобычи с помощью «томагавков»). Что же касается Грузии, то она уже стала каналом транзита энергии на Запад в обход России.
Доводы типа «где НАТО, там больше демократии» оставим тому же майдану с примыкающими к нему прочими пропагандистскими площадками. Особенно когда это касается военных решений — решения по Косово и Ираку альянс, как известно, также принимал в соответствии с процедурами, которые считает демократическими.
Несколько иначе обстоят дела с фактором национального суверенитета Грузии и Украины. Скажем сразу: роль России во внутригрузинском противостоянии безукоризненной не была, хотя конфликты спровоцировали не мы. Так что мотивация значительной части сограждан Саакашвили, именно с НАТО связывающих надежду на восстановление своей территориальной целостности, вполне понятна. Но, другой стороны, то, что абхазский и южноосетинский конфликты удалось худо-бедно перевести из военной в политическую плоскость, является заслугой Москвы, а не международного сообщества, тем более Тбилиси. При добрососедстве с Грузией, исключающей ее членство в альянсе, шансы на объединение страны сохранятся, другое дело, что этот процесс нельзя форсировать. Российская заинтересованность в стабильном соседстве с Грузией может на первых порах привести к той форме объединения Тбилиси, Сухума и Цхинвала, которая пока проходит обкатку в разноформатных моделях российско-белорусского союза. Но членство Грузии в НАТО такую перспективу если не закроет, то отдалит: недружественный нам сосед должен обладать хотя бы географически меньшим потенциалом враждебности.
Еще жестче обстоят дела с Украиной. Не только Крым, но и вся восточная часть страны с Одесской областью в придачу объективно тяготеют к России. Этот фактор может сыграть политически разнонаправленную роль: интеграционного моста с исторически братским народом, ведомым дружественными лидерами, или его раскола — по жизненным для России показаниям.
Прагматизм присущ политике в не меньшей степени, чем романтическому треугольнику — если его стороны не флиртуют, а всерьез задумываются о будущем. В этом случае нашему выбору предшествует выбор соседей.
Потребность в анализе российско-натовского взаимодействия стала особо
насущной именно сегодня, когда определяется не только будущее Украины и
Грузии, но и перспектива наших отношений с Западом.
Запад предлагает нам выбор: либо мы принимаем натовский диктат, сохраняя внешнее подобие диалога, либо идем на конфронтацию. В последнем случае лидеры альянса могут посягнуть не только на отечественный Стабфонд, но и на качество российской государственности. С другой стороны, сбросив нас в геополитический остаток, Запад неизбежно снизит свой общий потенциал. Тем самым провоцируя столкновение с китайским и исламским «мирами», менее уязвимыми, чем мы. Парадокс состоит в том, что сохранение нашей глобально балансирующей роли дает Западу больше преимуществ, чем расправа над Россией.
Осознают ли это на Западе? Логикой — да. Но соблазн достижения еще одного геополитического рубежа заложен эйфорией конца 90-х (в 80-х годах мы тоже намеревались оставить Афганистан сразу после расширения зоны контроля в Панджшере или вокруг Кандагара).
Можно, конечно, посетовать на то, что не получилось стратегического партнерства с Западом. Однако оно и не могло получиться из-за отсутствия общих целей (нельзя же считать таковыми пресечение иногалактического вторжения или предупреждение «бунта машин» в духе голливудских фильмов). А совместная антитеррористическая борьба свелась к оправданию американского присутствия в Средней Азии. Реальный противник Запада сегодня — это Китай. Но с ним нас связывает куда больше, чем со Старым и Новым Светом.
Вступление в НАТО Украины и Грузии приведет едва ли не к самому радикальному в российской истории и самому затратному пересмотру системы обороны страны. Обессмысливаются такие понятия, как «соотношение сил» и «подлетное время», уязвимость российских центров
власти ничем не компенсируется. А публичные отказы натовских претендентов от размещения иностранных баз, как и их обещания стать пресловутым «мостом», и юридически, и практически ничтожны — по условиям членства в НАТО, военная деятельность блока распространяется на всех вступивших. И с выходом западного альянса на рубеж Большого Кавказского хребта, Ростова и Воронежа нам легче перенести столицу вглубь России, чем договариваться о профилактике искушений.
Киев и Тбилиси одинаково связывают свое натовское будущее с укреплением позиций в энергетической сфере. На самом деле их вступление в альянс ничего не изменит ни для нас, ни для них. На Украине считают, что военное «присовокупление» к Европе усилит ее голос в диалоге с Москвой, упорно не замечая, что ценовая стандартизация уже давно вошла
в повестку дня переговоров Москвы с Евросоюзом. Военно-ультимативное ценообразование — это либо майданный довод в пользу НАТО, либо повод к военному конфликту с Россией (если они собираются снижать себестоимость газодобычи с помощью «томагавков»). Что же касается Грузии, то она уже стала каналом транзита энергии на Запад в обход России.
Доводы типа «где НАТО, там больше демократии» оставим тому же майдану с примыкающими к нему прочими пропагандистскими площадками. Особенно когда это касается военных решений — решения по Косово и Ираку альянс, как известно, также принимал в соответствии с процедурами, которые считает демократическими.
Несколько иначе обстоят дела с фактором национального суверенитета Грузии и Украины. Скажем сразу: роль России во внутригрузинском противостоянии безукоризненной не была, хотя конфликты спровоцировали не мы. Так что мотивация значительной части сограждан Саакашвили, именно с НАТО связывающих надежду на восстановление своей территориальной целостности, вполне понятна. Но, другой стороны, то, что абхазский и южноосетинский конфликты удалось худо-бедно перевести из военной в политическую плоскость, является заслугой Москвы, а не международного сообщества, тем более Тбилиси. При добрососедстве с Грузией, исключающей ее членство в альянсе, шансы на объединение страны сохранятся, другое дело, что этот процесс нельзя форсировать. Российская заинтересованность в стабильном соседстве с Грузией может на первых порах привести к той форме объединения Тбилиси, Сухума и Цхинвала, которая пока проходит обкатку в разноформатных моделях российско-белорусского союза. Но членство Грузии в НАТО такую перспективу если не закроет, то отдалит: недружественный нам сосед должен обладать хотя бы географически меньшим потенциалом враждебности.
Еще жестче обстоят дела с Украиной. Не только Крым, но и вся восточная часть страны с Одесской областью в придачу объективно тяготеют к России. Этот фактор может сыграть политически разнонаправленную роль: интеграционного моста с исторически братским народом, ведомым дружественными лидерами, или его раскола — по жизненным для России показаниям.
Прагматизм присущ политике в не меньшей степени, чем романтическому треугольнику — если его стороны не флиртуют, а всерьез задумываются о будущем. В этом случае нашему выбору предшествует выбор соседей.
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".