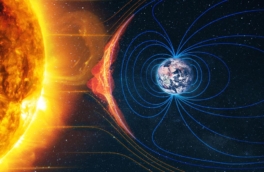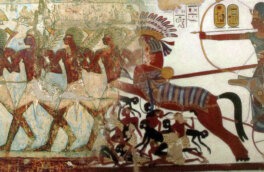Архивная публикация 2003 года: "Вольная борьба за мир"
Однако Европу уже многие месяцы захлестывают антиамериканские митинги, в которых участвуют десятки и сотни тысяч, иногда даже миллионы человек. В России антивоенные выступления поражают своей малочисленностью и маргинальностью участников.Слом
Более того, по признаниям простых американцев, в эти дни нигде в Европе они не чувствуют себя так спокойно, как в нашей стране. При этом, судя по опросам общественного мнения, в России, как и в Европе, от 80% до 90% населения американское вторжение в Ирак не поддерживают.
Нынешняя Европа, разумеется, не за Хусейна. Она против Америки, которую воспринимают как зарвавшуюся выскочку. Но главное -- она против войны. Любой войны в любой ситуации.
Психологический слом в Европе начался во время Первой мировой. Эта война принципиально отличалась от всех предыдущих "культурных" европейских войн и совершенно не вписывалась в европейскую гуманистическую традицию. Первая мировая не имела реальных причин (все причины были выдуманы postfactum и ни одна из них никоим образом не могла быть оправданием для континентальной катастрофы), при этом превратилась в страшную бойню, когда за продвижение на 10 км (чисто тактический успех) приходилось платить сотнями тысяч жизней (что соответствовало масштабам крупной стратегической операции). К этому добавилось первое в истории применение химического оружия, неограниченная подводная война, наиболее ярким эпизодом которой стало потопление "Лузитании" и другие подобные "удовольствия". Четырехлетнее сидение в окопах, приведшее к гибели 10 миллионов человек и завершившееся крахом четырех великих империй, породило сильнейшее желание никогда больше не допустить ничего подобного. Именно это желание привело к катастрофе гораздо больших масштабов. Сперва Германию попытались максимально унизить, а потом, когда в качестве реакции на это унижение к власти пришли нацисты, их начали умиротворять.
Уже тогда стало ясно, что европейцы не хотят воевать ни при каких обстоятельствах. Это проявилось в "странной войне" сентября 1939 -- мая 1940 годов, это проявилось в мгновенном крахе Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии (все они были, конечно, гораздо слабее Германии, но не настолько, чтобы рухнуть так быстро, практически без всякого сопротивления). Самым ярким проявлением слома Европы стал разгром Франции. Та же судьба постигла бы и Великобританию, если бы ее не возглавил Черчилль. Этот человек четко видел различия между добром и злом, при этом искал не основания для капитуляции перед вторым, а способы добиться победы первого. Черчилль довел нацию до победы, и сразу после нее нация с фантастической быстротой от него избавилась. Кроме Великобритании, всего две страны Европы оказали настоящее сопротивление Гитлеру -- СССР и Югославия.
Иллюзия вечного мира
Сразу после давшейся невероятно высокой ценой победы во Второй мировой началась Третья мировая, более известная под названием "холодная". Восточная Европа была оккупирована Советским Союзом, Западная добровольно "оккупировалась" Соединенными Штатами. Таким образом, управлять Европой стали страны не совсем европейские, хотя и культурно родственные Европе. Крах советского блока и мирное объединение континента породили у европейцев эйфорию и чувство, что вот теперь уже действительно все -- наступил "конец истории" и вечный мир. Последующие события опровергли эту иллюзию, но, как говорится, если теория противоречит фактам, тем хуже для фактов.
Вышеупомянутое нежелание воевать ни при каких обстоятельствах за годы "холодной войны" существенно укрепилось (по сути, европейцы в ту эпоху разделились на два лагеря: одни были готовы капитулировать перед коммунизмом, если дело дойдет до войны, другие великодушно уступали американцам право умереть за свободу европейцев), а после ее окончания стало совершенно непоколебимым. При этом оно наконец-то охватило и Германию, "организовавшую" первые две мировые. После 1945 года немцы оказались под таким мощным психологическим прессингом ответственности за Гитлера, что не сломаться просто не могли.
Капитулировавшая перед нацистами европейская интеллигенция после войны создала миф о Сопротивлении. Таковое, конечно, было, однако в масштабах многократно меньших, чем рассказывается в мифе. Из мифа о Сопротивлении родился миф о национально-освободительных движениях, которые необходимо всегда и всюду поддерживать. С этим мифом органично слился другой -- о преступности всякой власти и абсолютной недопустимости какого бы то ни было государственного насилия. Этот миф появился на свет как отзыв на ужасы нацизма и коммунизма, но автоматически перенесся и на власть, избранную вполне демократическим путем. Поэтому теперь политкорректная и либеральная Европа, до сих пор страдающая по поводу холокоста, безоглядно поддерживает "национально-освободительные", т.е. откровенно террористические, движения, отрицающие самые элементарные права человека и, в частности, ставящие своей целью полное уничтожение еврейской нации. Кроме того, политкорректность требует максимально поддерживать "чужих" (в этническом, культурном, конфессиональном смысле), особенно в тех случаях, когда они борются против "своих".
В том же направлении работает и демографическая ситуация в Европе. Почти все западно-европейские страны были метрополиями, над некоторыми империями, как известно, не заходило солнце. Теперь они тихо, но неуклонно превращаются в колонии своих бывших колоний. Речь в данном случае идет не о полном подчинении Лондона Вашингтону (а ведь всего 200 лет назад английские солдаты сожгли Белый дом!). Речь идет об иммиграции из стран третьего мира. Сперва жители стран Ближнего Востока, Южной Азии и тропической Африки были нужны Европе в качестве дешевой рабочей силы. Затем обосновавшиеся в Европе иммигранты стали требовать воссоединения семей, и европейские гуманисты не смогли им в этом отказать. Быстро выяснилось, что семья иммигранта может достигать 20 человек, но было поздно. Затем иммигранты оценили преимущества европейской системы социальной помощи, которая позволяет достаточно хорошо жить, вообще не работая. Взамен этих "осознавших" Европа вынуждена была привлекать новых иммигрантов, чтобы они выполняли работу, которую перестали делать предыдущие. Эта дурная бесконечность дополняется многократно более высокой рождаемостью среди иммигрантов по сравнению с аборигенами.
Данный процесс мог бы иметь положительное значение (компенсация падения рождаемости, рост трудовых ресурсов), если бы происходила ассимиляция иммигрантов. Однако она чрезвычайно слаба, большинство приезжих стремятся сохранить свою прежнюю культурную, конфессиональную, поведенческую идентичность, а не вписаться в европейское общество. Более того, среди иммигрантов, оказавшихся в чуждой культурной и религиозной среде, влияние экстремистских организаций (в первую очередь исламских) оказывается иногда выше, чем на их бывшей родине. Для них Хусейн просто свой человек -- и по крови, и, главное, по духу.
Нация-воин
Вот теперь и борется за мир во всем мире противоестественный на первый взгляд союз политкорректных аборигенов-пацифистов и агрессивных экстремистов-иммигрантов. Естественно, что против войны в Югославии четыре года назад эта компания не протестовать не могла -- там ведь белые православные европейцы-сербы боролись с мусульманами-албанцами (которые формально тоже белые и европейцы, но европейцы только по месту жительства, а никак не по менталитету). Кроме того, в той ситуации государство подавляло "национально-освободительное движение", что с точки зрения пацифистов недопустимо. Поэтому их абсолютно не волновал ни истинный облик "борцов за свободу Косова", ни отсутствие санкции ООН на применение силы против суверенного государства.
Для России и Первая, и Вторая, и Третья мировые оказались более тяжелыми, чем для всех европейцев вместе взятых. Первая принесла более двух миллионов погибших, непривычно тяжелые военные поражения и в конце концов крах государства и приход к власти самого жестокого тоталитарного режима в истории страны. Вторая -- беспрецедентные людские потери и материальный ущерб. Третья -- еще один крах государства (при том, что еще живы люди, видевшие предыдущий крах) и слом всей привычной картины действительности. Тем не менее пацифизм в Россию так и не пришел, точнее, остался уделом крайне немногочисленных маргиналов.
Тут, безусловно, сказываются национальные традиции. Россияне (русские и те народы, которые глубоко и прочно с ними интегрированы) -- типичная "нация-воин". Русская армия не раз проигрывала отдельные сражения, иногда и войны в целом, но все равно оставалась одной из лучших в мире, потому что никогда не бежала от противника, как стадо. Могли побежать отдельные солдаты, отдельные подразделения, но армия в целом стояла насмерть. Превращение в стадо всей армии имело место лишь однажды: под влиянием большевистской пропаганды в конце 1917 -- начале 1918-го (именно те события мы до сих пор отмечаем 23 февраля в качестве "Дня защитника Отечества"). Традиции при этом остались. Великая Отечественная началась со страшных катастроф, но закончилась величайшей победой. А Третью мировую армия вроде бы и не проигрывала, хотя именно гонка вооружений надорвала СССР и привела его к краху.
Армия в последние 15 лет чувствовала себя униженной, оскорбленной, брошенной, преданной, но только не проигравшей. Объективно говоря, и афганская, и обе чеченские в военном плане также проиграны не были, хотя и успешными их не назовешь. Российский народ традиционно считает армию "своей", родной, плоть от плоти, причем даже сейчас это чувство в целом сохранилось, несмотря на Чечню и "дедовщину". Состояние армии население оценивает вполне адекватно, но "своей" от этого она быть не перестает. Поэтому перспективы у отечественного пацифизма достаточно печальные. Нация остается воином.
Чужие войны
"Борьба за мир" и "дружба народов" активно навязывались советским агитпропом со времен Хрущева, однако в этот период пропаганда все в большей степени начинала давать обратный эффект и к концу 70-х воспринималась большинством населения с точностью до наоборот. В "борьбу за мир" трудно было верить, когда вся страна работала на войну, а уровень жизни оставался безобразно низким. Отношение к многочисленным "братьям по классу" и оружию, которые внезапно появились у нас на всех континентах, выразил Владимир Высоцкий: "Отберите орден у Насера. Не подходит к ордену Насер". Были и другие песни, что писали сами работавшие за границей военные и гражданские специалисты, которые "ведут чужие батальоны в чужой стране, в чужой войне" (речь в этих строках идет о том же насеровском Египте). И "братские страны", и их войны так и остались для нас чужими. Подавляющее большинство советских людей не сумели понять, зачем мы вкладываем колоссальные деньги в развивающиеся страны при повальной нищете собственного населения. Тем более что новые союзники как-то не очень соответствовали образу строителей нового общества -- перед нами, как правило, были жестокие и малообразованные феодалы (а иногда и вообще первобытные вожди), относившиеся к Советскому Союзу с плохо скрываемым презрением и готовые предать нас и перебежать к тем, кто заплатит больше. Почти никто в то время не знал, что Насер во время Второй мировой был капитаном вермахта, а Хусейн уже в эпоху дружбы с СССР полностью уничтожил иракских коммунистов.
Антиамериканизм, навязывавшийся советским людям наряду с "дружбой народов" и "борьбой за мир", также начал вызывать у населения отторжение вплоть до обратного эффекта. Потом, уже в постсоветской России, наблюдалось определенное разочарование в Штатах ("Союз развалили, а денег не дали"), однако в целом Америку российский народ оценивает достаточно адекватно. Он прекрасно видит все отрицательные стороны политики США, но не считает, что мы снова должны, при наличии колоссальных внутренних проблем, надрывать последние силы в борьбе с американцами, тем более что непонятно, ради чего это надо делать. Конечно, до 90% россиян не одобряют нападения на Ирак, но не более 6% считают, что надо как-то реально поддерживать Хусейна. Для нас это чужая война, такая же чужая, как локальные войны 50-х -- 80-х, в которых тем или иным образом участвовал СССР. В конце концов, если янки совершают ошибку или даже преступление -- это их проблемы, а не наши.
Что касается антиамериканизма зоологического, на уровне рефлексов, то он остается уделом значительной части властной элиты и группы левых интеллектуалов, близких по духу своим европейским коллегам. В демократической России у власти в основном остались советские политические и военные руководители, считающие Штаты воплощением абсолютного Зла, которому надо противостоять всегда и любой ценой. Никаких рациональных аргументов, зачем это надо делать, они привести не способны, как не способны понять, что именно такое противостояние, ставшее самоцелью, погубило СССР. Как показала вся история постсоветской России, население во всех критических ситуациях ведет себя гораздо адекватнее элиты -- видимо, оно сумело сделать выводы (отчасти осознанные, отчасти интуитивные) из краха Союза и не хочет повторения истории уже с самой Россией. Боль за погибшую Империю, разумеется, сильна, но еще сильнее понимание того, что любые попытки ее восстановления приведут к потере даже того, что мы имеем сейчас. Поэтому люди так равнодушны к иракским событиям.
Можно, конечно, списать поведение нашего народа на присущую ему апатию, но это, очевидно, несправедливо. Когда задеты реальные интересы, апатия мгновенно исчезает, о чем свидетельствуют "коммунальные" митинги в Воронеже и Петропавловске-Камчатском, голодовки учителей в Сибири, бои за собственность при активнейшем участии трудовых коллективов на уральских заводах и т.д. Более того, четыре года назад россияне отреагировали и на внешнеполитические события: протест против войны в Югославии был весьма бурным. Та война в значительно большей степени была воспринята народом как "своя". В какой-то мере это, видимо, объясняется чувством славянской солидарности. Кроме того, в сознании нашего населения очень силен фактор Чечни, который автоматически накладывается на события за пределами России.
И военно-политическая, и этно-конфессиональная канва косовского конфликта была практически точной копией конфликта чеченского. Это очень существенно усилило чувство российско-сербской солидарности. Война между США и Ираком формально не имеет ничего общего с чеченской, однако на подсознательном уровне для россиянина Хусейн, скорее, будет ассоциироваться с Масхадовым, а Буш -- с Путиным. И это еще одна причина, по которой россияне не имеют особого желания протестовать против похода на Багдад.
Конечно, американская агрессивная наглость восторга вызывать не может, но нельзя не заметить, что агрессивность, наглость и жестокость нынешних врагов США многократно превышают американские, просто бодливой корове бог дал не очень длинные рога. При этом враги американцев и для нас как минимум не друзья (хотя в дружбе клясться очень любят). И защиты от россиян они не дождутся.
Однако Европу уже многие месяцы захлестывают антиамериканские митинги, в которых участвуют десятки и сотни тысяч, иногда даже миллионы человек. В России антивоенные выступления поражают своей малочисленностью и маргинальностью участников.Слом
Более того, по признаниям простых американцев, в эти дни нигде в Европе они не чувствуют себя так спокойно, как в нашей стране. При этом, судя по опросам общественного мнения, в России, как и в Европе, от 80% до 90% населения американское вторжение в Ирак не поддерживают.
Нынешняя Европа, разумеется, не за Хусейна. Она против Америки, которую воспринимают как зарвавшуюся выскочку. Но главное -- она против войны. Любой войны в любой ситуации.
Психологический слом в Европе начался во время Первой мировой. Эта война принципиально отличалась от всех предыдущих "культурных" европейских войн и совершенно не вписывалась в европейскую гуманистическую традицию. Первая мировая не имела реальных причин (все причины были выдуманы postfactum и ни одна из них никоим образом не могла быть оправданием для континентальной катастрофы), при этом превратилась в страшную бойню, когда за продвижение на 10 км (чисто тактический успех) приходилось платить сотнями тысяч жизней (что соответствовало масштабам крупной стратегической операции). К этому добавилось первое в истории применение химического оружия, неограниченная подводная война, наиболее ярким эпизодом которой стало потопление "Лузитании" и другие подобные "удовольствия". Четырехлетнее сидение в окопах, приведшее к гибели 10 миллионов человек и завершившееся крахом четырех великих империй, породило сильнейшее желание никогда больше не допустить ничего подобного. Именно это желание привело к катастрофе гораздо больших масштабов. Сперва Германию попытались максимально унизить, а потом, когда в качестве реакции на это унижение к власти пришли нацисты, их начали умиротворять.
Уже тогда стало ясно, что европейцы не хотят воевать ни при каких обстоятельствах. Это проявилось в "странной войне" сентября 1939 -- мая 1940 годов, это проявилось в мгновенном крахе Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии (все они были, конечно, гораздо слабее Германии, но не настолько, чтобы рухнуть так быстро, практически без всякого сопротивления). Самым ярким проявлением слома Европы стал разгром Франции. Та же судьба постигла бы и Великобританию, если бы ее не возглавил Черчилль. Этот человек четко видел различия между добром и злом, при этом искал не основания для капитуляции перед вторым, а способы добиться победы первого. Черчилль довел нацию до победы, и сразу после нее нация с фантастической быстротой от него избавилась. Кроме Великобритании, всего две страны Европы оказали настоящее сопротивление Гитлеру -- СССР и Югославия.
Иллюзия вечного мира
Сразу после давшейся невероятно высокой ценой победы во Второй мировой началась Третья мировая, более известная под названием "холодная". Восточная Европа была оккупирована Советским Союзом, Западная добровольно "оккупировалась" Соединенными Штатами. Таким образом, управлять Европой стали страны не совсем европейские, хотя и культурно родственные Европе. Крах советского блока и мирное объединение континента породили у европейцев эйфорию и чувство, что вот теперь уже действительно все -- наступил "конец истории" и вечный мир. Последующие события опровергли эту иллюзию, но, как говорится, если теория противоречит фактам, тем хуже для фактов.
Вышеупомянутое нежелание воевать ни при каких обстоятельствах за годы "холодной войны" существенно укрепилось (по сути, европейцы в ту эпоху разделились на два лагеря: одни были готовы капитулировать перед коммунизмом, если дело дойдет до войны, другие великодушно уступали американцам право умереть за свободу европейцев), а после ее окончания стало совершенно непоколебимым. При этом оно наконец-то охватило и Германию, "организовавшую" первые две мировые. После 1945 года немцы оказались под таким мощным психологическим прессингом ответственности за Гитлера, что не сломаться просто не могли.
Капитулировавшая перед нацистами европейская интеллигенция после войны создала миф о Сопротивлении. Таковое, конечно, было, однако в масштабах многократно меньших, чем рассказывается в мифе. Из мифа о Сопротивлении родился миф о национально-освободительных движениях, которые необходимо всегда и всюду поддерживать. С этим мифом органично слился другой -- о преступности всякой власти и абсолютной недопустимости какого бы то ни было государственного насилия. Этот миф появился на свет как отзыв на ужасы нацизма и коммунизма, но автоматически перенесся и на власть, избранную вполне демократическим путем. Поэтому теперь политкорректная и либеральная Европа, до сих пор страдающая по поводу холокоста, безоглядно поддерживает "национально-освободительные", т.е. откровенно террористические, движения, отрицающие самые элементарные права человека и, в частности, ставящие своей целью полное уничтожение еврейской нации. Кроме того, политкорректность требует максимально поддерживать "чужих" (в этническом, культурном, конфессиональном смысле), особенно в тех случаях, когда они борются против "своих".
В том же направлении работает и демографическая ситуация в Европе. Почти все западно-европейские страны были метрополиями, над некоторыми империями, как известно, не заходило солнце. Теперь они тихо, но неуклонно превращаются в колонии своих бывших колоний. Речь в данном случае идет не о полном подчинении Лондона Вашингтону (а ведь всего 200 лет назад английские солдаты сожгли Белый дом!). Речь идет об иммиграции из стран третьего мира. Сперва жители стран Ближнего Востока, Южной Азии и тропической Африки были нужны Европе в качестве дешевой рабочей силы. Затем обосновавшиеся в Европе иммигранты стали требовать воссоединения семей, и европейские гуманисты не смогли им в этом отказать. Быстро выяснилось, что семья иммигранта может достигать 20 человек, но было поздно. Затем иммигранты оценили преимущества европейской системы социальной помощи, которая позволяет достаточно хорошо жить, вообще не работая. Взамен этих "осознавших" Европа вынуждена была привлекать новых иммигрантов, чтобы они выполняли работу, которую перестали делать предыдущие. Эта дурная бесконечность дополняется многократно более высокой рождаемостью среди иммигрантов по сравнению с аборигенами.
Данный процесс мог бы иметь положительное значение (компенсация падения рождаемости, рост трудовых ресурсов), если бы происходила ассимиляция иммигрантов. Однако она чрезвычайно слаба, большинство приезжих стремятся сохранить свою прежнюю культурную, конфессиональную, поведенческую идентичность, а не вписаться в европейское общество. Более того, среди иммигрантов, оказавшихся в чуждой культурной и религиозной среде, влияние экстремистских организаций (в первую очередь исламских) оказывается иногда выше, чем на их бывшей родине. Для них Хусейн просто свой человек -- и по крови, и, главное, по духу.
Нация-воин
Вот теперь и борется за мир во всем мире противоестественный на первый взгляд союз политкорректных аборигенов-пацифистов и агрессивных экстремистов-иммигрантов. Естественно, что против войны в Югославии четыре года назад эта компания не протестовать не могла -- там ведь белые православные европейцы-сербы боролись с мусульманами-албанцами (которые формально тоже белые и европейцы, но европейцы только по месту жительства, а никак не по менталитету). Кроме того, в той ситуации государство подавляло "национально-освободительное движение", что с точки зрения пацифистов недопустимо. Поэтому их абсолютно не волновал ни истинный облик "борцов за свободу Косова", ни отсутствие санкции ООН на применение силы против суверенного государства.
Для России и Первая, и Вторая, и Третья мировые оказались более тяжелыми, чем для всех европейцев вместе взятых. Первая принесла более двух миллионов погибших, непривычно тяжелые военные поражения и в конце концов крах государства и приход к власти самого жестокого тоталитарного режима в истории страны. Вторая -- беспрецедентные людские потери и материальный ущерб. Третья -- еще один крах государства (при том, что еще живы люди, видевшие предыдущий крах) и слом всей привычной картины действительности. Тем не менее пацифизм в Россию так и не пришел, точнее, остался уделом крайне немногочисленных маргиналов.
Тут, безусловно, сказываются национальные традиции. Россияне (русские и те народы, которые глубоко и прочно с ними интегрированы) -- типичная "нация-воин". Русская армия не раз проигрывала отдельные сражения, иногда и войны в целом, но все равно оставалась одной из лучших в мире, потому что никогда не бежала от противника, как стадо. Могли побежать отдельные солдаты, отдельные подразделения, но армия в целом стояла насмерть. Превращение в стадо всей армии имело место лишь однажды: под влиянием большевистской пропаганды в конце 1917 -- начале 1918-го (именно те события мы до сих пор отмечаем 23 февраля в качестве "Дня защитника Отечества"). Традиции при этом остались. Великая Отечественная началась со страшных катастроф, но закончилась величайшей победой. А Третью мировую армия вроде бы и не проигрывала, хотя именно гонка вооружений надорвала СССР и привела его к краху.
Армия в последние 15 лет чувствовала себя униженной, оскорбленной, брошенной, преданной, но только не проигравшей. Объективно говоря, и афганская, и обе чеченские в военном плане также проиграны не были, хотя и успешными их не назовешь. Российский народ традиционно считает армию "своей", родной, плоть от плоти, причем даже сейчас это чувство в целом сохранилось, несмотря на Чечню и "дедовщину". Состояние армии население оценивает вполне адекватно, но "своей" от этого она быть не перестает. Поэтому перспективы у отечественного пацифизма достаточно печальные. Нация остается воином.
Чужие войны
"Борьба за мир" и "дружба народов" активно навязывались советским агитпропом со времен Хрущева, однако в этот период пропаганда все в большей степени начинала давать обратный эффект и к концу 70-х воспринималась большинством населения с точностью до наоборот. В "борьбу за мир" трудно было верить, когда вся страна работала на войну, а уровень жизни оставался безобразно низким. Отношение к многочисленным "братьям по классу" и оружию, которые внезапно появились у нас на всех континентах, выразил Владимир Высоцкий: "Отберите орден у Насера. Не подходит к ордену Насер". Были и другие песни, что писали сами работавшие за границей военные и гражданские специалисты, которые "ведут чужие батальоны в чужой стране, в чужой войне" (речь в этих строках идет о том же насеровском Египте). И "братские страны", и их войны так и остались для нас чужими. Подавляющее большинство советских людей не сумели понять, зачем мы вкладываем колоссальные деньги в развивающиеся страны при повальной нищете собственного населения. Тем более что новые союзники как-то не очень соответствовали образу строителей нового общества -- перед нами, как правило, были жестокие и малообразованные феодалы (а иногда и вообще первобытные вожди), относившиеся к Советскому Союзу с плохо скрываемым презрением и готовые предать нас и перебежать к тем, кто заплатит больше. Почти никто в то время не знал, что Насер во время Второй мировой был капитаном вермахта, а Хусейн уже в эпоху дружбы с СССР полностью уничтожил иракских коммунистов.
Антиамериканизм, навязывавшийся советским людям наряду с "дружбой народов" и "борьбой за мир", также начал вызывать у населения отторжение вплоть до обратного эффекта. Потом, уже в постсоветской России, наблюдалось определенное разочарование в Штатах ("Союз развалили, а денег не дали"), однако в целом Америку российский народ оценивает достаточно адекватно. Он прекрасно видит все отрицательные стороны политики США, но не считает, что мы снова должны, при наличии колоссальных внутренних проблем, надрывать последние силы в борьбе с американцами, тем более что непонятно, ради чего это надо делать. Конечно, до 90% россиян не одобряют нападения на Ирак, но не более 6% считают, что надо как-то реально поддерживать Хусейна. Для нас это чужая война, такая же чужая, как локальные войны 50-х -- 80-х, в которых тем или иным образом участвовал СССР. В конце концов, если янки совершают ошибку или даже преступление -- это их проблемы, а не наши.
Что касается антиамериканизма зоологического, на уровне рефлексов, то он остается уделом значительной части властной элиты и группы левых интеллектуалов, близких по духу своим европейским коллегам. В демократической России у власти в основном остались советские политические и военные руководители, считающие Штаты воплощением абсолютного Зла, которому надо противостоять всегда и любой ценой. Никаких рациональных аргументов, зачем это надо делать, они привести не способны, как не способны понять, что именно такое противостояние, ставшее самоцелью, погубило СССР. Как показала вся история постсоветской России, население во всех критических ситуациях ведет себя гораздо адекватнее элиты -- видимо, оно сумело сделать выводы (отчасти осознанные, отчасти интуитивные) из краха Союза и не хочет повторения истории уже с самой Россией. Боль за погибшую Империю, разумеется, сильна, но еще сильнее понимание того, что любые попытки ее восстановления приведут к потере даже того, что мы имеем сейчас. Поэтому люди так равнодушны к иракским событиям.
Можно, конечно, списать поведение нашего народа на присущую ему апатию, но это, очевидно, несправедливо. Когда задеты реальные интересы, апатия мгновенно исчезает, о чем свидетельствуют "коммунальные" митинги в Воронеже и Петропавловске-Камчатском, голодовки учителей в Сибири, бои за собственность при активнейшем участии трудовых коллективов на уральских заводах и т.д. Более того, четыре года назад россияне отреагировали и на внешнеполитические события: протест против войны в Югославии был весьма бурным. Та война в значительно большей степени была воспринята народом как "своя". В какой-то мере это, видимо, объясняется чувством славянской солидарности. Кроме того, в сознании нашего населения очень силен фактор Чечни, который автоматически накладывается на события за пределами России.
И военно-политическая, и этно-конфессиональная канва косовского конфликта была практически точной копией конфликта чеченского. Это очень существенно усилило чувство российско-сербской солидарности. Война между США и Ираком формально не имеет ничего общего с чеченской, однако на подсознательном уровне для россиянина Хусейн, скорее, будет ассоциироваться с Масхадовым, а Буш -- с Путиным. И это еще одна причина, по которой россияне не имеют особого желания протестовать против похода на Багдад.
Конечно, американская агрессивная наглость восторга вызывать не может, но нельзя не заметить, что агрессивность, наглость и жестокость нынешних врагов США многократно превышают американские, просто бодливой корове бог дал не очень длинные рога. При этом враги американцев и для нас как минимум не друзья (хотя в дружбе клясться очень любят). И защиты от россиян они не дождутся.
АЛЕКСАНДР ХРАМЧИХИН
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".